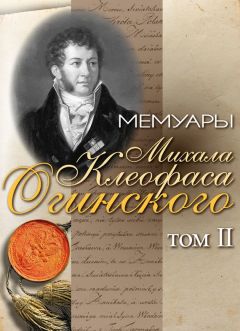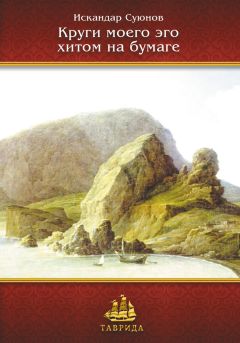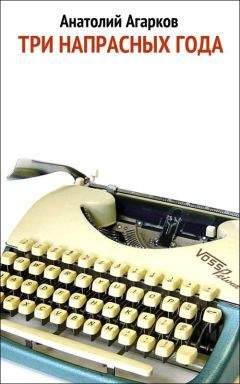Михал Огинский - Мемуары Михала Клеофаса Огинского. Том 1
Все условия, выдвинутые саксонским кандидатом относительно изменений в новой конституции, какими бы разумными они ни были, не могли быть выполнены по причине первого условия – согласия соседних государств на все положения конституции 3 мая, так как Россия уже высказала открыто свое неодобрение, и было очевидно, что саксонский кандидат старался избежать ее неодобрения. Впрочем, этот ультиматум дрезденского двора, после столь длительных переговоров с ним, был вручен уже в то время, когда русские армии были готовы перейти границы Польши.
Глава VII
Задержавшись в Варшаве на гораздо большее время, чем я предполагал, я не мог более откладывать свой отъезд в Белую Русь.
Я направился прямо в Могилев. Всемогущий в то время генерал-губернатор Пассек принял меня самым изысканным образом, так как получил благосклонное письмо обо мне от короля Польши. Менее чем за три недели я закончил свои дела и уже собирался отправляться обратно в Варшаву, когда несколькими курьерами было доставлено известие о том, что князь Потемкин посетит Могилев проездом в штаб-квартиру русской армии в Яссах. Любопытство и желание познакомиться с этим необыкновенным человеком заставили меня задержаться. Настоятельные уговоры генерал-губернатора Пассека также убедили меня отложить свой отъезд.
Накануне приезда князя все вокруг на расстоянии более 50 лье пришло в движение. Звонили во все колокола, гремели залпы орудий. Многочисленные кареты князя и его свиты, а также его военный эскорт поднимали тучи пыли в окрестностях города – все это возвещало о прибытии лица, которого ожидали не столько с нетерпением, сколько со страхом и беспокойством. Толпа правительственных чиновников, дворянство, прибывшее из самых отдаленных провинций, дамы в лучших туалетах, ожидавшие здесь с утра, чтобы увидеть могущественного человека, заставлявшего трепетать всю Россию, – одним словом, все собравшиеся в правительственном дворце бросились вниз по лестнице, чтобы увидеть, как князь выходит из кареты. Он вышел – в просторном летнем халате, совершенно запыленном, и прошел сквозь толпу придворных, никого не приветствуя и даже не удостоив взглядом.
Хотя я никогда ранее его не видел, я составил себе довольно верное представление по тому, что слышал о нем, и, соответственно, был убежден в том, что он в глубине души презирал тех, кто из страха или преувеличенного почтения низко склонялся перед ним. Потому я решил не предпринимать никаких шагов, которые могли бы составить у него неблагоприятное мнение обо мне.
Я не был российским подданным, и тем меньше причин было у меня льстить ему. С первого же взгляда я заметил, что он выделил меня из прочих и что моя сдержанность его поразила. Не спускаясь с лестницы, я ждал его в апартаментах вместе с двумя вновь прибывшими иностранцами. Он спросил у Пассека, кто я такой, вежливо приветствовал меня, а через четверть часа его адъютант полковник Баур пришел пригласить меня отобедать с князем.
Вернувшись к себе, я располагал несколькими часами до назначенного обеда и стал размышлять об этой редкой случайности, которая давала мне возможность увидеть сблизи необыкновенного и странного человека, который привлекал к себе внимание всей Европы.
Повсеместно ходили слухи, что он мог претендовать на корону Польши. Его сторонники даже не скрывали этого и старались приобрести ему друзей, точнее – оплаченных приверженцев. Я знал, что этот человек, баловень судьбы, не имел серьезного образования и воспитания, но имел очень верный взгляд на все, а его такт и гений изумляли всех, кто к нему приближался. Он мог поставить меня в затруднение расспросами о варшавском сейме и своими замечаниями о новом состоянии дел в Польше. Поскольку ни бояться, ни надеяться со стороны Потемкина мне было не на что, я решил честно отвечать на все его вопросы, и мне это удалось.
Во время обеда, на котором было не более двух десятков приглашенных, князь много говорил со мной о Голландии, которую я недавно посетил, но которую он знал так, будто прожил в ней всю жизнь, а также об Англии, образ правления, традиции, обычаи и нравы которой были ему прекрасно известны.
Поговорив со знанием дела об английских фабриках и мануфактурах и сравнив их с российскими, он перешел к музыке и живописи, заметив при этом, что англичане ничего в них не понимают. Назвав двух модных художников, Лампи и Грасси, он вдруг повернулся ко мне и сказал, что было смешно со стороны польского короля заставить Грасси изобразить его на портрете на двадцать лет моложе, чем он был. Он находил столь же смешным, что князю Юзефу Понятовскому на портрете были приданы черты Адониса с мышцами Геркулеса.
Я видел, что князь намерен продолжать разговор в том же духе, отпуская сарказмы в адрес короля и его племянника, и потому решил перевести разговор на другие картины двух упомянутых художников. Затем я назвал еще нескольких современных художников, и среди них – Смуглевича, поляка, который получил в Риме премию как рисовальщик и своим талантом делал честь своей родине.
Князь продолжал говорить колкости о короле, что начинало уже выводить меня из терпения, а потом заявил, что Смуглевич имеет прекрасную возможность проявить себя, работая над картиной о принятии конституции 3 мая. При этом он посоветовал разбросать там-сям по всей картине цветы, которые называются по-немецки «vergismeinnicht»[14]… И он прибавил, улыбаясь: «Вы меня понимаете»…
Можно было двояко расценить это пожелание князя. Но в тот момент я усмотрел в нем лишь жест насмешки над нашей конституцией и над польским художником и потому не мог не ответить следующим образом. Смуглевич – художник не только талантливый, но еще здравомыслящий и осторожный. Соответственно, до сих пор он использовал свои карандаши для того только, чтобы изображать свершившиеся исторические факты, которые никем не оспаривались и которые составляли честь и славу польской нации. Сейчас он пока не намеревается забегать вперед событий и писать картину на сюжет конституции 3 мая, поскольку этот документ является всего лишь наброском. Когда же через некоторое время работа сейма в Варшаве будет завершена, то художник сочтет за честь начать и завершить труд, который оставит потомству воспоминание об одной из самых замечательных эпох в анналах Польши, обессмертив, возможно, тем самым и собственное имя.
Князь посмотрел на меня испытующим взглядом, но без видимой неприязни, и тут же сменил разговор. По окончании обеда многие французы, два швейцарца и один американец подходили ко мне и от всего сердца обнимали – за то, что я разговаривал на языке правды с человеком, которому никогда не говорили правды.
В тот же день за ужином мне случилось сидеть рядом с князем, и он был по отношению ко мне уже более сдержан, однако, затронув в разговоре другие темы, он вернулся к королю Польши и событиям в Варшаве. «Как можно было, – говорил он, – вам всем настолько потерять голову, чтобы доверить командование Варшавой графу Казимиру Ржевускому? Этот человек никогда не служил в армии и не имеет никакого понятия о военном деле!..» Своим уклончивым и коротким ответом я надеялся перевести разговор на другую тему, но князь вернулся к разговору, доказывая мне, что выбор коменданта Варшавы был сделан неправильно. Я ответил, что граф Ржевуский получил хорошее образование за границей и, по всей вероятности, знает военную тактику, хотя бы в теории. «Да что вы мне говорите о теории! – возразил князь. – Зачастую нужно уметь как раз-таки нарушить правила, чтобы добиться успеха и совершить действительно великое дело». Мне хотелось закончить этот разговор, и я решил, что легче всего сделать это, сказав ему комплимент: «Бесспорно, мой князь, никто не может судить об этом лучше, чем вы, и именно в вашей школе следует учиться и воспитывать себя». Князь, казалось, не остался равнодушен к этому комплименту, но захотел показать мне, что он стоит намного выше того, что я имел в виду, и гордо ответил: «Это еще не все. Нужно быть рожденным для этого». Я тут же нашелся в ответ: «И главное, нужно быть очень удачливым».
С этой минуты князь стал еще более вежлив, вследствие чего мое мнение о нем повысилось, и наш разговор стал более непринужденным. Назавтра я даже с удовольствием услышал от него лестные высказывания о храбрости, патриотизме и талантах поляков.
Он много рассказывал мне о земледелии, ботанике, о тех усовершенствованиях, которые были необходимы для организации фабрик и мануфактур в той части Польши, где находились его владения, а также для расширения торговли во всей стране. Он показал мне полотно и часы, произведенные на его предприятиях в Дубровне, то есть на тех землях в Белой Руси, которые он недавно купил у графа Ксаверия Любомирского.
В тот же день около полудня князь устроил нечто среднее между завтраком и обедом. Присутствовали только граф Пассек, архиепископ Могилева Богуш-Сестренцевич и я. Мы разместились за столом, накрытым по меньшей мере на тридцать персон. Все остальные, мужчины и женщины, лица первого ранга, держались на почтительном расстоянии в салоне и в соседних апартаментах. Наконец князь распрощался с нами, ушел и вскоре отбыл с тем же блеском и шумом, с каким прибыл.