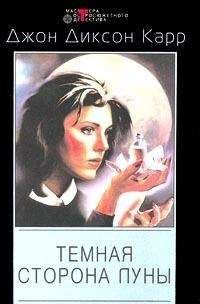Та сторона Альманах - Та сторона (выпуски 1-7)
Дело не в том, что первый «хороший», а второй «плохой». Просто право давать оценку у Крапивина имеет лишь ребенок. «Хорошим» или «плохим» взрослый становится лишь в отношении ребенка. И при этом он не обладает никакими иными качествами или свойствами сам по себе, но лишь в отношении к детям. Это отношение не выступает как некое абстрактное отношение вообще, но есть отношение к конкретному ребенку, который является героем произведения. Все остальные взрослые, прежде всего, есть лишь продукт сознания героя. Отношения "ребенок — ребенок" отличаются от отношений "ребенок — взрослый". Я покажу это на конкретном примере, достаточно характерном. Журка ("Журавленок и молнии") проявляет просто чудеса сопереживания в отношении, скажем, к Валерику. Между тем, последний едва не убивает Журкиного отца (!). С другой стороны, параллельный сюжет с режиссером Кергелен. Она, в сущности, есть вымысел, фикция Журкиного сознания. Лишь мелькнув один раз в поле зрения Журки, она оказывается снабженной ярлыком, оценкой. Она «плохая». Об этом говорит сон, где Кергелен появляется в роли лесной ведьмы. Ведь Журка еще не знает, что Кергелен — это она. Параллельно вводятся два плана: с одной стороны, зарождение дружбы Журки с Валериком, который магическим образом оказывается по сути невиновным, с другой — нарастание неясной, неизъяснимой тревоги. И, конечно, кульминация, «взрыв». Здесь, кстати, единственный раз в романе появляется Дед (герой "Колыбельной для брата"), который и запускает сцену, посылая Журку в учительскую, где он, собственно, и узнает, что фамилия режиссера Кергелен.
Фигура действительно роковая. Валерик — виновен фактически, но в сознании героя не виноват. Кергелен фактически вообще не виновата, в сознании героя же она магическим обазом оказывается виновата даже в том, в чем фактически виноват Валерик. Логика весьма неочевидная, и цепь Журкиных рассуждений вряд ли могла бы быть понята взрослым. Однако, это и не важно, потому что в системе отношений "взрослый — ребенок" понимание вообще не фигурирует. Если в случае с Валериком Журка ставит себя на его место, понимает его, то по отношению к взрослым он этого не делает. И это естественно, так как понимание рождается там, где есть два целостных, независимых в своем существовании друг от друга человека, а взрослые у Крапивина независимо не существуют.
Действительно, попробуйте взять любого взрослого и развернуть его другой стороной. Попробуйте представить его в другой обстановке, или посмотреть на него глазами другого. Крапивинские герои иногда, весьма редко, но все же делают подобный поворот. Кульминационный момент из повести "Валькины друзья и паруса", учительница Анна Борисовна требует, чтобы Бегунов отдал свой галстук. Он поднимает глаза навстречу ей. "И вдруг Валька понял (выделено мной — Е.С.), что Анна Борисовна устала. И что ей, наверно, очень хочется уйти домой, и, может быть, по дороге еще надо зайти в булочную, которую скоро закроют; а потом придется готовит ужин, возиться с посудой и думать о завтрашних уроках… И он, Валька Бегунов, только маленькая частичка многих забот (а не оценивающий все и вся центр Е.С.)… И на секунду Валька ощутил даже что-то вроде смутной жалости к ней, уставшей и раздраженной. Но это чувство мгновенно забылось". Вот так. Момент понимания есть лишь момент, который мгновенно оказывается забытым. Взрослый обречен на фатальное непонимание.
Однако, стоп. Все сказанное выше относилось прежде всего к произведениям В.П., написанным примерно до начала 80-х годов. После этого мы можем отметить достаточно решительную перемену. Этот факт позволяет обсудить следующий сюжет — самоповторяемость Крапивина. Действительно, так ли верно это утверждение?
Во многом этапным, интересным для анализа произведением является, конечно, "Голубятня на желтой поляне". Именно здесь впервые намечено то, чего раньше у Крапивина не было: принципиально новый тип взаимоотношений между "миром детей" и "миром взрослых". Вспомним, каким образом «сообщались» между собой миры в произведениях, написанных до «Голубятни». Здесь, собственно, два способа, существо которых состояло в том, что герой-взрослый, для того, чтобы стать именно героем, а не безличной фигурой, должен был сам стать ребенком. Первый из этих способов «магический» — представлен в трилогии "В ночь большого прилива". Всякий раз, проникая в "мир детей", герой сам становится ребенком, скорее надевает маску ребенка. Действительно, полного забвения взрослости здесь не происходит. Например, герой так же владеет искусством фехтования, как он владел им и в своей «взрослой» ипостаси. Второй способ — реализован в "реалистических произведениях". Его суть в том, что автор, ведущий повествование, перемещается в свое собственное детство. Он действует опять-таки под маской ребенка. По такому принципу построены, например, "Тень Каравеллы", некоторые из "Летящих сказок". В "Голубятне на желтой поляне" все меняется принципиальным образом. Положение главного героя Ярослава Родина здесь весьма двойственное. С одной стороны, он есть выдумка, порождение сознания Игнатика. Эта черта роднит его со взрослыми персонажами, скажем, романа "Журавленок и молнии". Как и любой взрослый, он не существует автономно. Но, с другой стороны, Крапивин делает его героем, центром повествования, то есть целостным, самодостаточным и независимым индивидом, который через свое сознание преломляет все происходящее в нем. Если раньше взрослый мог войти в мир детей, только надев маску ребенка, то теперь он входит в мир детей именно как взрослый. Более того, он нужен там именно в таком качестве. Вспомним, "Один и четыре", — так называется вступление к роману "Голубятня на желтой поляне". Один — это как раз взрослый, причем, повторю еще раз, целостный и самодостаточный, принимающий решение и дающий оценки. И это говорит о том, что прежняя схема отношений "мира взрослых" и "мира детей" существенно изменилась. Крапивин по-прежнему локализует события в "мире детей", но центром, организующим этот «мир», оказывается теперь взрослый.
В начале я говорил о двух стереотипах, управляющих восприятием произведений Крапивина. Моей целью было если не разрушить, то, по крайней мере, несколько сдвинуть эти стереотипы. Действительно, В.П. самоповторяется, каждое его новое произведение во многом предсказуемо. При этом самоповтор не скрывается, а наоборот, выставляется на первый план. Об этом говорит, например, столь любимый писателем прием введения в новое произведение героев из старых своих книжек, что задает как бы непрерывность описываемой им «реальности». Однако, должен ли вдумчивый читатель, а тем более критик, лишь констатировать этот самоповтор? Нет, конечно. Следует идти от поверхностного плана вглубь, насколько это возможно. Видеть различное в сходном — такова должна быть исследовательская установка, которую я и попробовал в какой-то степени реализовать.
***
Игорь Глотов (г. Жуковский)
Барабанщикам "Голубятни на
желтой поляне" посвящается
Казематы, галереи, коридоры,
Лицеисты не желают больше гнуться.
Не сдержали ни запоры, ни заборы,
И назад они уж больше не вернуться.
Кто поменьше, уходили за ворота
От разрядников, насилия, цинизма.
А в лицей уже спешит за ротой рота,
Для порядка, что по принципам фашизма.
Наступали те, что детства их лишали,
Те, с которыми они непримиримы,
Они маленьких всерьез не принимали,
А мальчишки взяли в руки карабины…
Уходящих за ворота прикрывали,
Отступать же не могли и не хотели.
Им приклады сильно в плечи ударяли,
Только пули почему-то не летели…
Из стволов на землю выпадали пули,
Поднимая пыли серые фонтаны.
Карабины лицеистов обманули,
И тогда мальчишки взяли барабаны.
Барабаны, барабаны, барабаны…
Барабанщиков неровная цепочка.
Губы сжатые, а палочки упрямы,
В их упорстве непоставленная точка.
Барабанов почерневших гулкий рокот
Смял, отбросил глазированные лица.
Наступления умолк тяжелый грохот,
Отошли, но барабанщикам не скрыться.
Придавило их к стене, сжигая, пламя,
Что запущено жестокими врагами.
И с вершин они летят на камни прямо,
На мгновенье замерев между зубцами.
Их бичи, огонь и страх не покорили,
Но не залечить мальчишеские раны.
Вниз шагали, о пощаде не просили,
На зубцах свои оставив барабаны.
И летели, в жгучем пламени теряясь,
Сжавши воздух обожженными руками.
Над Планетой в синем ветре растворяясь,
Часть ушла из пекла боя ветерками…
Ветерками улетали с поля боя,
Уходили через пламя, не сдаваясь.
Им не чувствовать ни холода, ни зноя,
Но тоска в них не угаснет, разрастаясь.
А оставшиеся, что не улетели,
Обнимали землю тонкими руками.