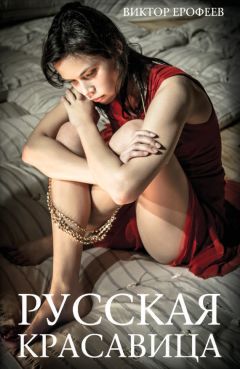Журнал Русская жизнь - Безумие (март 2008)
В последней гравюре Хогарта Том Рэйкуэлл, блудный сын XVIII столетия, лишь отчаивается, не каясь, проклинает, не молясь, и конец его страшен: «сойди с ума, и страшен будешь как чума, как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут». Хогартовская интерпретация истории блудного сына, греха без раскаяния, проступка без прощения, возмездия без снисхождения кажется в этом ряду великих произведений слишком прямолинейной и назидательной. Но в самом деле ли нет Тому Рэйкуэллу прощения?
В XVIII веке, в эпоху Просвещения, безумие воспринимается как крайняя форма неразумия. Безумцы были сами виноваты в потере разума, и поэтому их нужно было изолировать, а не лечить. Ореол святости, окружавший нищих, дурачков и умалишенных в Средние века и в эпоху Возрождения, пропадает. Нищие подлежат заточению в работные дома, сумасшедшие - в специальные госпитали, более похожие на темницы. Очень часто их содержали вместе с растратчиками отцовского наследства, либертинами-распутниками и другими представителями групп девиантного поведения. Хогарт, помещая Тома Рэйкуэлла в Бедлам, рисует нам закономерный конец распутника, докатившегося до последней стадии падения. Рана на его обнаженной груди намекает на тягчайший грех самоубийства, он безнадежен, и вокруг лишь «крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да визг, да звон оков». Смерть для Тома была бы слаще.
Но все же Бедлам, а не Ньюгейтская тюрьма. Ассоциация, кажущаяся почти неожиданной, возникает при взгляде на Бедлам в изображении Хогарта. Обнаженное тело Тома простерто на камнях, его то ли заковывают, то ли освобождают от кандалов, и над ним три склонившиеся фигуры. Сара Янг утирает слезы, и вся группа представляет вариацию на тему «Оплакивания». В то же время, как совершенно точно подметил Оден в своем либретто, эта же группа, как всякое Оплакивание, вызывает в памяти рыдания Венеры над Адонисом. Безумие простирает над поверженным свое прощение и оправдание, и беспомощный вид бедного повесы не вызывает ничего, кроме сочувствия. Уподобление, пусть даже и отдаленное, Тома Рэйкуэлла Спасителю зримо свидетельствует о его спасении. В своем ужасе перед безумием и в сочувствии ему Хогарт намечает совершенно новое отношение к пониманию сумасшествия, пока еще символично-расплывчатое. Безумие определяется как априорная и конкретная потенция любого человека, «поскольку он вообще является человеком», выражаясь словами того же Одена. Так как безумие живет в каждом из нас и в каждом из нас исчезает, оно - наша родина, и в безумии мы равно находим и пристанище, и гибель. Ведь безумие - совершеннейшая полнота истины и неустанно совершающийся труд бытия каждого человека. Так, во всяком случае, считали Хогарт, Стравинский и Оден, и финал оперы заканчивается траурным хором безумцев, поющих:
Скорбите по Адонису вечно юному,
Скорбите по Адонису,
возлюбленному Венеры.
Плачьте, плачьте и тихо
ступайте вкруг его катафалка.
Плачьте, плачьте
по возлюбленному Венеры,
плачьте, плачьте.
Безумцы-то правы, никакой Том не распутник, а мифический бог, с уходом которого начинается зима.
И звон русских колоколов смешивается со звоном английских.
Алексей Володин
Чтобы не убили
Здоровый человек в хорошей психбольнице
- Надо бы тебе полежать, - сказала врачиха моей вузовской поликлиники, куда я пришел после сессии жаловаться на сердцебиение и бессонницу. Волосы у врачихи были крашены в ту особую разновидность сиреневого цвета, которая не дает заподозрить пожилую женщину в пристрастии к панк-музыке, а разве только в болезненном отношении к седине.
- В постели на каникулах? - огорчился было я.
- В клинике. Заодно решишь еще одну проблему. У тебя уже всего достаточно. 7Б тебе гарантирован.
Только что меня торжественно выперли с военной кафедры за полное отсутствие тактико-картографического чутья, поэтому проблему действительно надо было как-то решать. Но в дурдом не очень хотелось. Однако другого способа решить вопрос забесплатно судьба мне, кажется, не готовила - а многих тысяч долларов на белый билет с доставкой на дом у меня патологически не было. Так что предложение сиреневого доктора, прозревшего в задерганном студенте без пяти минут психа, пришлось принять - тем более что условия мне были обещаны близкие к санаторным.
- Пэссики есь? - голос, с трудом выговаривающий русские слова, принадлежал юноше-азербайджанцу супертяжелой весовой категории. Что речь идет о персиках, я понял только с третьей попытки высказывания, которую мой мучимый фруктовой жаждой сосед сопроводил характерным жестом. Наслышанный о господствующем в психбольницах паханате, я сильно испугался - как раз персиков у меня и не было. Но юноша потерял ко мне всякий интерес. Похоже, пугали меня зря - о родстве с тюрьмой здесь напоминали лишь решетки на окнах и между маршами лестниц, а также сданные при поступлении на хранение ремень и шнурки. Впрочем, клиника эта была при большом научном центре, что автоматически ставило ее в привилегированное положение. Как оказалось, лечить меня здесь решили потому, что мой случай лег в тему диссертации одного из здешних докторов, оставшегося в моей памяти как Андрей Александрович.
- От армии косишь? - беззлобно поинтересовался в курилке человек с внешностью вышедшего на пенсию участкового. Впоследствии выяснится, что он монтажник-высотник, страдающий от черной депрессии, и к врачу обратился сам - после того, как несколько раз буквально ловил себя за края спецовки, чтобы не кинуться с крыши. Фразу про закос я только за первый день услышал раз, наверное, пятнадцать - и решил, что лучше шутливо соглашаться, чем что-то кому-то доказывать. И я шутливо соглашался.
- Ты что, идиот? Зачем ты ему это сказал? - вылупил на меня глаза молодой человек в огромных роговых очках. - Он же стукач!
В последующие несколько дней очкарик попытается стать моим другом, через неделю я узнаю, что он настоящий клептоман и неопасный шизофреник, а через две недели его выпишут. Я вкратце объяснил ему, что надеюсь на адекватное восприятие, и сам примолкнул - ирония в этих стенах была не в почете.
Дурдом, как не обинуясь называли его мои новые сотоварищи, живо опровергал абсолютно все распространенные стереотипы - и предлагал взамен новые. В курилке, у телевизора, на прогулке меня, вопреки ожиданиям, окружали абсолютно нормальные с виду люди; Наполеонов и алжирских беев здесь, видимо, не водилось никогда. Единственной их сильно отличительной чертой была чрезвычайная заторможенность: двигались и говорили они как в сценах замедленной съемки. Но чем ординарнее выглядел человек, тем, как правило, большие проблемы имел. Интеллигентного вида студент мехмата банально переучился до того, что стал заговариваться - мама с папой вызвали скорую. Совсем юный человек христообразной внешности за один день потерял в катастрофе всю семью; сердобольные соседи по лестничной клетке сутки слушали через картонную стену его рыдания, после чего привезли его сюда. Оба рассказали мне, что их здесь называют «косцами» - в этот разряд записали и меня.
- От армии косишь, - вполне утвердительно произнес молодой соискатель Андрей Александрович, вызвавший меня к себе на следующее утро. Шутить ли с доктором, было неясно, и я предпочел промолчать. В течение встречи доктор изредка поднимал голову, чтобы вполне дружелюбно задать мне какой-нибудь вопрос, после чего погружался в писанину. Я рассказывал что-то про семью, про институт, а он писал. Он писал, когда я говорил, писал, когда я надолго замолкал и даже когда я выходил из кабинета. Позже я узнал, что врачи-психиатры слушают, не что говорит человек, а как.
Мой дорогой доктор, как выяснилось, нашел у меня психическую патологию на первой же встрече. «Иди выпей лекарства», - сказал он, не отрываясь от бумаг. Предложение меня несколько удивило - мое пребывание здесь называлось обследованием. Смутно припомнив формановский «Полет над гнездом кукушки», попробовал спрятать таблетки под язык, но не тут-то было - бдительная медсестра попросила открыть рот. Нейролептики и транквилизаторы здесь давали всем без разбора - пришлось проглотить.
- Ты лежишь первый раз, и таблетки тебе придется пить, - инструктировал меня мой приятель Петя Параноид, работавший на «Врачей без границ» и сам много раз лежавший с настоящим клиническим диагнозом, обозначенным в его прозвище, - опыта у тебя нет, симулировать действие препаратов ты не сможешь.
Симулировать и правда было трудновато - я решительно не замечал никаких перемен ни в своем поведении, ни в окружающем мире. Разве что больные, ходившие по коридорам, больше не казались мне заторможенными овощами, как при поступлении. Некоторые, правда, при разговоре смотрели только прямо перед собой, но и это больше не казалось странным - в конце концов, мы же в психиатрической клинике. Первая же моя попытка почитать книгу закончилась забавной неудачей - видя перед собой печатный лист, я отчего-то не мог прочесть и двух строк. Буквы не расплывались, нет - они просто отказывались складываться в слова, а слова - в предложения. Из доступных удовольствий остались только плеер (он исчез из-под моей подушки сразу после того, как выписался очкастый клептоман) и телевизор, выключавшийся ровно в 22.00.