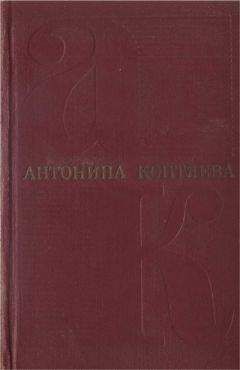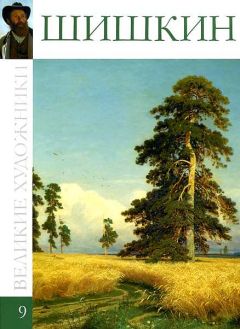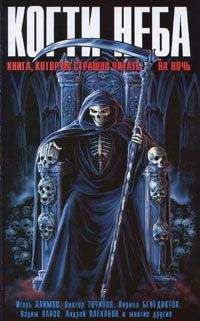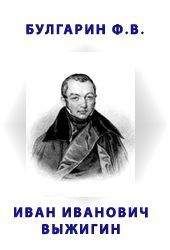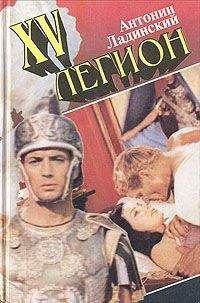Борис Рощин - Встречи
Сидим мы с Ией рядышком, прижавшись друг к другу плечами, глаза в глаза, и такое у меня ощущение, будто давным-давно знакомы с ней. Смотрит Ия на меня так, словно один-разъединственный я для нее на белом свете (мужчины такое особенно ценят), а у меня в ответ в душе все струны лирические чудесные звуки издают. Сижу, нежностью переполненный, и с трудом удерживаюсь, чтобы губами доярочку за ушко не ущипнуть.
— Фотограф, приезжай к нам в Поддубье, — Ия шепчет, — пофотографируй нас.
— Мало молока даете, — шепчу в ответ, — чтобы фотографировать вас, — и руку девушки осторожно в ладони свои заключаю.
— А сколько надо молока? — Ия спрашивает и пальцы руки своей горячей с моими пальцами переплетает.
— Много, — бормочу и волосы ее со щеки своей сдуваю.
— Приезжай, — едва слышно выдохнула Ия, и здесь как-то так получилось, что губы наши на мгновение случайно соприкоснулись.
Дальнейшее все смутно воспринимал. В глазах моих, как в песне поется, «помутился белый свет». Словно в полусне слышу: аплодисменты по залу прошелестели, видать, лектор речь свою закончил. Потом еще разные голоса в микрофон говорили, потом вдруг привел меня в себя начальственный басок: «Фотокорреспондент! Где фотокорреспондент?»
Пожал я руку девушки многообещающе и, не прощаясь, на сцену с фотоаппаратом поспешил. Фотографирую передовиков, которым на сцене почетные ленты через плечо повязывают, подарки цепные и грамоты вручают, записываю в блокнот фамилии, адреса, а сам нет-нет да и брошу взгляд в зрительный зал, в сторону доярки Павловой. Да разве усмотришь ее в эдакой массе лиц! Невольно опасение закрадывалось: ну как разминемся с Ией? Ни лица ее вспомнить не могу, ни фигуры, ни в чем одета, только глаза да губы. Что ее на сцену не вызовут за подарками — сомнений нет. Заозерская ферма и в лучшие свои времена надоями не блистала, а нынче к бесперспективным причислена, скоро вовсе прикроют. Удивительно еще, как могла Ия Павлова с подружкой «съездовскую» норму из «бесперспективных» своих коровенок вытянуть.
Только закончилась «подарочная» процедура на сцене, подошел я к начальнику районного сельхозуправления и попросил шепотом: так, мол, и так, Павел Васильевич, прошу объявить в микрофон, чтобы все работники ферм не забыли у меня сфотографироваться. Жду их в кабинете заведующего библиотекой на втором этаже. Павел Васильевич эту мою просьбу охотно исполнил, а я на второй этаж поспешил, к съемкам готовиться.
Тут должен я небольшую профессиональную тайну приоткрыть перед читателями. Подобные собрания людей, вроде этого съезда, представляют особый интерес не только для газеты, но и лично для меня. Чем больше лиц поймаю я в объектив фотоаппарата, тем легче дальнейшая моя профессиональная жизнь. Представляете: сколько надо по району болтаться, чтобы всех этих людей на местах рабочих сфотографировать? А тут все вместе и каждый при параде. Конечно же, о художественно-композиционной стороне дела при поточном фотографировании говорить не приходится. Однако в газете эта сторона дела частенько не самой главной является. Иной раз захудалая фотография доярки или механизатора важнее лучшего конкурсного фотоэтюда.
Поначалу, как это обычно бывает, людей в комнатушку набралось тьма. Никто толком понять не может: зачем фотографироваться, для чего фотографироваться? Иные, слышу, предполагают, что для доски Почета, иные говорят — на память карточки, иные и вовсе плетут невесть что. Главное, что людей сейчас ко мне привлекает, — это любопытство, неизвестность. Объясни я, что для газеты съемки веду, вмиг поредеет толпа. Первый этаж соблазнами уже гудит: музыка, танцы, буфеты с апельсинами, киоски книжные… Не всякий устоит. К тому же среди делегатов съезда немало «пятитысячниц». Чтобы столько молока от коров своих получать ежегодно, да еще в условиях, в каких порой они работают, нужно великим тружеником быть. А великие труженики, как правило, и великие скромники. Трудно представить себе великого человека, стоящего в очереди ради своей газетной фотографии. Короче говоря, работаю, хожу винтом, чтобы народ не упустить, на каждого человека по три кадра затрачиваю — фас, профиль, три четверти — отходи! Помощники мои добровольные едва успевают в блокноты фамилии записывать, кто кем и где работает. Я же на все вопросы однообразно отвечаю: «Надо, товарищи, надо!» А сам, естественно, на дверь поглядывать не забываю, Ию жду.
И вдруг сердце екнуло — она! Наконец-то! Заглянули с подружкой в дверь не совсем уверенно (я ее тотчас по глазам узнал) и как бы размышляют: входить или не входить? Поймал я Иин взгляд, чуть заметным кивком головы на дальний угол указал. Твоя очередь ко мне, дескать, последняя. Поняла все, заулыбалась. Стоит ли говорить, что работа у меня еще энергичнее пошла, еще шустрее. Через десять-пятнадцать минут в комнатушке только Ия с подругой остались. Подругу ее сфотографировал в том же темпе, говорю:
— Не смею вас задерживать. С Ией мне необходимо наедине поработать, хочу ее особо снять.
Остались мы с девушкой наедине, Ия спрашивает:
— Почему меня особо?
— Нравишься мне очень, потому и особо, — отвечаю.
— Правда? — улыбается.
— Правда, — подтверждаю.
— Тогда я согласна. Фотографируй по-особому, только карточки не забудь привезти. Привезешь?
— Привезу.
Прикинул я девушку в видоискателе в разных ракурсах и только тогда рассмотрел ее хорошенько. Помнится, одета она была в кофточку с короткими рукавами и юбку ниже колен (мода на «мини» у доярок из отдаленных деревень почти не приживается), роста выше среднего, узкоплечая, но сбита плотно, гибкая, сильные длинные бедра под юбкой рельефно вырисовываются, а грудь… Я такую грудь только однажды у какой-то французской актрисы в кино видел… Нет, трудно описывать женщину, которая тебе нравится. Попробуйте сами — убедитесь. Как ни стараешься, а получается все не то и даже пошлостью отдает. Лучше на слово поверьте: хороша была Ия! Так хороша, что, глядя на нее, дышать было нечем и ноги слабостью наливались, подкашивались. Вот только одна несуразность из всего Ииного обличья мне в глаза бросилась. Фигура ее женственностью дышала, такие фигуры скульпторы любят обнаженными изображать с грудным младенцем на руках, а глаза, губы, все лицо ее и нежная девичья шея совсем юными казались, нецелованными.
Поймал я улыбку девушки в кадр, щелкнул затвором. Ия спрашивает:
— И это все?
— Нет, — отвечаю, — это только начало.
Отложил фотоаппарат в сторону, подошел к девушке, говорю:
— Головку вот так поверни, волосики со лба убрать, воротничок поправить… — И все эти операции, естественно, помогаю девушке выполнять. А она на меня лучится глазами — даже неловко повторяться — как на единственного, на суженого своего…
— Откуда ты такая взялась? — тихо спрашиваю и горящие щеки девушки ладонями трогаю, охлаждаю.
— Какая? — улыбается.
— Хорошая…
Поймала она вдруг руками мои ладони на своих щеках и губами нежно их трогает, целует. А я, поверьте, даже не засмущался нисколько, словно не впервой мне девушки руки целуют. Смотрю ей в глаза и словно душу живую, человеческую, в ладонях своих держу, и хочется мне почему-то на колени перед девушкой этой стать.
Ну а потом, скрывать не стану, поцеловались. И, что удивительно, ни у нее, ни у меня никакой стыдливости нет, будто муж и жена мы, после долгой разлуки встретились. Придрались друг к другу и молчим, улыбаемся, губы один у другого губами ловим. Только когда я пуговку на кофточке Ии расстегнул, спросила смеясь:
— Это у тебя «по-особому» называется?
Ответить ей не успел. Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась шумная подвыпившая компания. Ия отпрянула от меня и только шепнуть успела: «Приезжай!»
— Вот он, фотограф, здеся! — чей-то голос заорал. — С дояркой нашей милуется! Давай фотографируй нас, желаем!
— А пошли вы все, — говорю, — от меня подальше. Никого больше снимать не буду. Не желаю! У меня сегодня, между прочим, тоже выходной день.
Отбился я от захмелевшей компании, огляделся, Ии нигде нет. На первый этаж спустился, по вестибюлю побродил, в буфет заглянул, в зрительный зал — там самодеятельные артисты к спектаклю готовились. Нет Ии, как сквозь землю провалилась. Потолкался я невесело среди людей, тоскливо стало. Повсюду голоса возбужденные гудят, музыка гремит, танцуют люди, пляшут, частушки голосят, а Ии нет!
Скажу честно: обиделся я тогда на доярку Павлову. Могла бы хотя попрощаться по-человечески. Подумаешь, фифа с пухленькими губками, небось в кафе-ресторан какой-нибудь подалась со своими совхозными, про меня и думать забыла. А я хожу тут, переживаю…
Как ни настраивал себя против доярки Павловой, всерьез обидеться на нее не мог. Не верилось, что из глухой деревушки девушка так лицемерно играть могла, так притворяться. Может быть, она про меня решила, что пижон я городской, к любой подсаживаюсь, которая глазом мигнет?