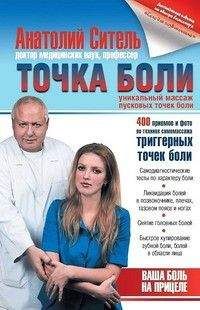Федор Крюков - В глубине
— Вон у Серебряка сколько!.. — Бородач ткнул рукой в ту сторону, где находится дворянская латифундия. — И его не трогают! Наши отцы-деды головы положили за его землю… Он — пан, а мы, значит, его крестьяне?..
Тут наш хозяйственный станичник развил исторически обоснованный и в наших глазах давно признанный правильным взгляд на дворянское владение землями в наших местах, как на разбойный захват у нас, казаков, кем-то свыше закрепленный. Почему, за что — неизвестно.
— Серебряк служил? — прижимая к груди широкую ладонь, резонно спрашивал наш станичник у представителя полиции: — а наши прадеды не в одних рядах с ним служили? У Серебряка оказалось 40 тысяч десятин — и чьей земли? — нашей, казачьей: кобылянский юрт отхватил! — а наши прадеды жались до гроба на своем казачьем пайке, на десятинках… Померли — их земля отошла в общество, а Серебряк свою область в потомство передал… Это праведный порядок, ваше благородие? А кто его подтвердил? Поехали от Войска старики к царице: «так и так, ваше величество, казаки ропчут — землю захватила старшина…» А царица повернула их назад, а дворянам бумагу на землю прислала… Это — голос? Что же казаки-то меньше дворян служат? Я трех сынов справил, а Серебряк кого на коня посадил?.. Вы говорите: «язык за зубами не держишь»! Да как тут молчать? Не согласен я молчать!..
— А-а… ты вот какие рассуждения!.. Это откуда же у тебя? Прокламаций начитался?.. Ну-ка, мы тебя слегка ощупаем…
Произвели обыск. Перерыли подушки, перины, сундуки, тулупы, валенки. Заглядывали в закрома, в погреб, в кизяки, в хлевы. Не нашли ничего, ни одного клочка писанной или печатной бумаги.
— Все равно хочь не копайте. На найдете… — спокойно сказал наш политический преступник.
— Акуратно запрятал? — ядовито спросил раздосадованный помощник пристава.
— Чего?
— Прокламации…
— Какие проталмации!.. Да я и неграмотный…
— Так чего ж ты молчал… черт!..
— Да вы бы спросили…
— Наспрашиваешься вас тут, дьяволов!.. Ну, счастье твое, что неграмотный… Однако откуда же в тебе эти самые блохи? Говори по совести… Не советовал бы я тебе скрывать, кто тебя развратил… Не сам ты это! с чужого голоса?..
Помощник пристава, как и всякий следопыт в своей области, уже нюхом угадывал здесь следы интеллигентских разъяснений. Он горел тайным желанием услышать и готов был даже сам подсказать некоторые имена, давно состоявшие на примете… Но — увы — темный человек закостнел в заблуждении, как будто оно родилось вместе с ним или досталось ему по наследству от обиженных прадедов…
— Нет, ваше благородие, — с глубоким убеждением сказал хозяйственный наш мужичок: — аж горе берет!.. Едешь в Михайловку, аж сердце вянет, сколько у одного Серебряка… А ты городишь-городишь… хлопочешь… и вдруг последнее отбирают…
Вот — даже в сознание хозяйственного обывателя, жадного, цепкого, не стесняющегося способами приобретения и преумножения, все-таки проник яд веяний о несправедливом общественном порядке и неравенстве. По своему преломилось в этом сознании понятие справедливости, но даже в оригинальном своем виде оказалось окрашенным в тона подрыва и потрясения основ…
Каким путем этот яд проник в такую первобытную дебрь — едва ли удастся установить какому бы то ни было помощнику пристава: носится в воздухе заразительный микроб и уловить его — вне полицейских сил. Растет неудержимо обыватель вопрошающий и ищущий, жадно хватающийся за каждый печатный клочок бумаги.
— Жажду учения, душа горит, а некогда читать, — слышу я от Сергуньки Маштака, который порой завернет ко мне за газетой и для разговора: — во время праздника лишь да на ходу за скотиной… Отдыху у нас мало, живем как быки: в ярмо запрягли, занозиком заткнули и шагай бороздой… И уж с нее не сшибемся… Ну какое же тут чтение? Так, безо всякой тактики и практики… ни обдумать, ни в голову взять как следует… И поговорить не с кем…
— А с дедом? — говорю: — ведь он тоже — книгочей…
— Дед — человек закоснелый. В нем одно: религия, Бог, рай, муки вечные… всякие страхи… Поскользнулся, упал — «Бог наказал»… — «Вот, Сергунька, Богу не молишься — вот оно»… У него все с молитвой, все с Богом: и украсть леску общественного, и обмануть, и уверить человека, что лошади, например, шесть лет, а ей шестнадцать… на ярмарке… Да и все у нас так: один одного Богом утверждают, один одного Богом обманывают… Ничего святого в жизни: любви нет, правды нет…
Этот преувеличенный пессимизм, которым бессознательно щеголял мой собеседник, был несомненным отражением современности нашей с ее горечью и разочарованием. Действительность — в нашем уголку, по крайней мере — все-таки менее безотрадна, чем изображал ее молодой обыватель. Его просто увлекала эта невинная роль — обличителя — и он, потрясая газетным листом, не без эффекта восклицал:
— И все это происходит в двадцатом столетии… время пара, электричества, летательных аппаратов!..
Немножко смешно было слушать его в такие минуты. Но вообще — трогательно: его жажда познания, его искания были живым свидетельством того, что новое, неясное, что просачивается в тихую, патриархальную жизнь нашего уголка, не все нелепо и сумбурно, — есть и светлое, вздыхающее о правде и сознательной жизни…
VI. Интеллигенция
Мы плыли на лодках — целой флотилией — вверх по реке — «против течения»…
В наших глухих местах, где полиции много и она изнывает от скуки, собраться кучке интеллигентов — поболтать, выпить чаю, попеть — не то чтобы совсем нельзя, а как-то не принято. Нет уверенности в отсутствии внезапностей: а вдруг ретивый пристав — человек, правда, любезный и просвещенный, из народных учителей — вдруг он вдохновится и решит блеснуть бдительностью? Примеры бывали… Конечно, из именинной пирушки не создашь политического заговора, но гостеприимных хозяев таскали в полицейское управление для конфиденциальной беседы. Удовольствия мало…
И так как у нас все друг друга коротко знают, все тесно переплетены между собой если не кровным родством и свойством, то кумовством и товарищескими отношениями детства и юности, то всегда какой-нибудь бравый урядник предупредительно выдаст служебную тайну:
— Вы, Антомоныч, того… как его… Песни играть играйте, а от разговору лишнего поддержитесь: следим… Приказано дознать, нет ли мол чего такого… из политики… Мы с Авдюшкиным вчера на пузе до самых кочетов лежали под вашим забором… Конечно, поснули… Ну, доложили, что все в порядке: сперва, мол, сыграли «Пыль клубится по дорожке», после «Орелика» и… все…
Поэтому, чтобы не доставлять излишнего беспокойства и искушения блюстителям тишины и благонадежного поведения, установилось как бы молчаливое соглашение: для товарищеских собраний и собеседований — пусть самых безвредных и невинных — выбирать места пустынные, девственные, подальше от жилых поселений, защищенные естественными препятствиями — например, водой — от внезапных набегов… Словом — лоно матери-природы…
И вот мы плывем за реку, в монастырский лес, на зеленые берега мечтательно тихого озера Долгого, где можно и петь во весь голос, и подрывать основы с спокойной уверенностью, что нас никто не прервет в самый оживленный момент нашего собеседования…
Над нами поднимаются меловые горы правого берега с своими живописными обрывами, размывами, черными буераками, тощим кустарничком, цепко ползущим вверх, и нависшими камнями. Седые, голые, задумчиво-безмолвные стражи старой, славной реки, хранящие не одну тайну былых времен в своих сырых пещерах… И бирюзовым зеркалом поблескивает тихая, обмелевшая река. Вдали, ниже, в ласковых лучах вечернего солнца сверкает белая баржа с нефтью, недвижная, тяжело легшая на песчаный откос. И словно уснул водовоз с бочкой, заехавший на самую средину реки. Живыми пестрыми цветами шевелятся бабы, полощущие белье, и на косе голые тела ребятишек…
Все — близкое сердцу, милое, давно знакомое, — тут, в этой патриархальной станице, я переступил давненько когда-то порог гимназии, отведал впервые горечи и сладости познания… Мой родной угол — в двадцати верстах отсюда, но он тесно и прочно пришит к сей пуповине многими сторонами своего бытия… Я же еще тесней связан с нею воспоминаниями отрочества, и юности и люблю ее, как очаг, дававший нашим глухим местам культурных работников, — вся наша местная интеллигенция крещена в этой купели…
— Вот с этой горы мы проводили в мае девятьсот шестого нашего Ивана Рябоконева на агитацию к краснянцам, — говорит мировой судья, усердно работая веслами. — Помнишь, Ваня?
Молодой инженер с комически мрачным видом отвечает:
— О таких вещах принято забывать поскорей…
— Вопрос об оружии — помню — у нас тогда много взял времени… Искали все револьвера — надо же было вооружиться на случай нападения черносотенцев. Ну, револьверов не оказалось. Нашелся пистолет старинный… заржавленный… фунтов этак четырех весом… Большой, страшный… Стрелять не годился, а попугать можно было… Ну, смотрел-смотрел на него наш Иван… — «Дайте мне — говорит — дубинку поувесистее, лучше будет»… Выбрал толстую палку, сучковатую, и пошел… на проповедь…