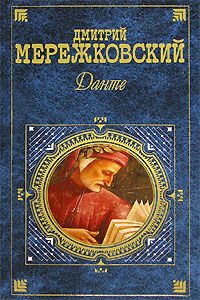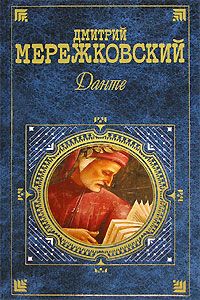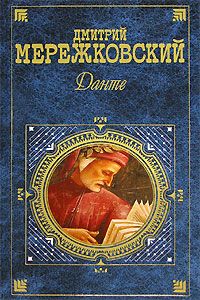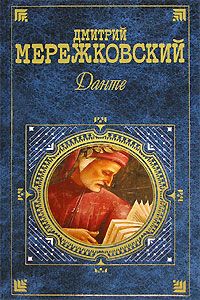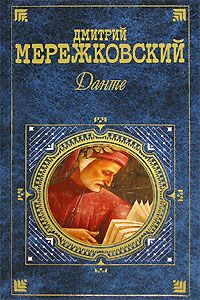Дмитрий Мережковский - Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского
Разумеется, возможен и третий выход: нисколько не заботясь о читателях, прямо высказывать все, что ты думаешь. Но, в настоящее время, кроме А. Чехова, нет ни одного человека, который бы имел достаточно внутренней веры, религиозности, чтобы не побояться принять такое предложение. Все глубоко убеждены, что если открыть глаза на действительность, если захотеть говорить правду — то в результате получится одно отчаяние. А читатель требует во чтобы то ни стало от писателя «положительных» идеалов. Тут с одной правдой далеко не уйдешь:
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
В силу своего недоверия к действительности (к действительности в самом широком смысле этого слова: не надо забывать, что Достоевский называл себя реалистом — и с полным правом) Мережковский перенес, как сказано, спор с религиозной на моралистическую почву и вместо Бога предлагает нам под именем «всемирного объединения» идеализм. Отсюда и его в своем роде беспримерная нетерпимость по отношению к гр. Толстому. Как известно, идеализм, добившийся «общеобязательных» суждений, был всегда деспотичнейшим учением — даже в устах тех лиц, которые в силу своего зависимого общественного положения, совершенно искренно мечтали о свободе мысли и слова. Если идеалисты и готовы уничтожить всякого рода внешние стеснения — они никогда не откажутся от права нравственного суда и осуждения. Г-н Мережковский являет тому превосходный пример. Вполне либеральный по натуре и своим симпатиям, он, соображая, что гр. Толстой не признает и никогда не признает высказываемые им суждения общеобязательными и единственно истинными, в буквальном смысле слова, иногда смешивает с грязью великого писателя земли русской. И притом — действует bona fide,[235] т. е. решительно не испытывает ни малейших признаков угрызения совести или даже чего-нибудь похожего на угрызения совести. Наоборот, так как он убежден, что действует во имя великой идеи и, так как для идеи, вообще говоря, ничем не жаль пожертвовать, то он, по-видимому, даже чувствует известное нравственное удовлетворение: маленький Давид, сильный только правдой, побивает огромного Голиафа. История интересная: она лишний раз может выяснить нам, чего добивается мораль или идеализм, когда они начинают настаивать на общеобязательных суждениях.
Г-ну Мережковскому не нравится в гр. Толстом то, что он в нем называет рационализмом, поклонением здравому смыслу, ибо в рационализме он видит помеху свободному движению мистической мысли. Это, разумеется, вполне естественно. Читатели, которые следили в прошлом году за «Миром Искусства» или знают мою более раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» ни на минуту не заподозрят во мне сторонника толстовской морали и ее главной идеи — «добро — есть Бог». Но из этого только следует, что на людях, не желающих превращать Бога в отвлеченное понятие, лежит обязанность доказать свою правоту. И, разумеется, г-н Мережковский, как человек достаточно образованный, превосходно знает, что onus probandi[236] — лежит на нас, а не на сомневающихся скептиках. Но, вместе с тем, г-н Мережковский достаточно искушен в этих делах, чтобы брать на себя подобного рода onus и, так как при том он считает, что от читателей нужно всячески скрывать внутренние сомнения писателей и что суть не в том, насколько ему действительно удастся поразить Голиафа, а в том, насколько удастся убедить публику в одержанной победе, то он, не делая даже попытки вдуматься в смысл толстовского рационализма, поднимает вопрос о нравственных качествах своего противника. А в таких случаях, как известно, всегда оказывается правым тот, кто успеет первым рассердиться, раскричаться и даже, как мы сейчас увидим, ударить — не в переносном, а почти в буквальном смысле этого слова — ударить врага… Читатель, вероятно, помнит еще ту сцену в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, в которой изображается, как старый лакей Григорий побил молодого лакея Смердякова за то, что этот последний во время урока не побоялся указать на замеченные им в словах Св. Писания противоречия. На месте Григория другой учитель, более толковый и терпеливый, вероятно, умел бы ответить своему ученику и смирил бы строптивого спорщика. Но неуклюжая мысль бывшего дворового человека растерялась при первом возражении, и он наградил мальчика полновесной пощечиной. Тут есть много любопытного, но во всяком случае, мы несомненно находимся в области комического, и пример Григория нас менее всего может соблазнить к подражанию. Григорий первый раз в жизни услышал возражения от Смердякова: но для нас возражения ведь не новость. Г-н Мережковский, как это ни невероятно, соблазнился: ему во что бы то ни стало захотелось приобресть общеобязательные суждения — хотя бы по способу Григория. «Вот славная пощечина!» — восклицает он и считает, что «рационализм», а с ним и гр. Толстой окончательно раздавлены, и что яснополянские сомнения отныне не должны приниматься в соображение. Моралисты так всегда поступали. Как только они замечали свое бессилие, они тотчас же начинали возмущаться и негодовать, что осквернены их светлые идеалы, что погублены надежды и т. д. Если же негодования оказывалось недостаточно, они иной раз не брезгали обращаться и к «пощечине» — к поддержке организованной или неорганизованной внешней силы. И раз вступивши на этот путь, г-н Мережковский считает, что сделал все: ему остается только придумывать различные вариации на тему о смердяковской пощечине. Что бы ни сказал Толстой — г-н Мережковский вспомнит Смердякова. Под конец, так как и Ницше ему мешает, он начинает поносить и Ницше, забывая благодарность, которой мы обязаны учителям своим. Приведу один-другой пример вариаций г-на Мережковского на тему о Смердякове, так как «своими словами» мне никогда не удастся должным образом объяснить, что, собственно, он предпринял. Выписав из «Бесов» фразу Ставрогина, оканчивающуюся словами «я точно заражен смехом», и желая доказать, что смех Ставрогина неуместен, г-н Мережковский пишет: «Это-то и есть наш современный и будущий, западноевропейский и русский всемирный демон — отец нашей „лжи“, нашей середины, нашего мещанства, нашей позитивной, либерально-консервативной, смердяковской, толстовской и ницшеанской пошлости (курсив мой. — Л. Ш.) — самый „маленький и гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся“, и в то же время, самый великий, с каждым днем растущий, наполняющий собою мир, и, однако, еще никем не узнанный (!), невидимый бес».[237] Или еще по поводу идеала великого инквизитора: «„В идеале великого инквизитора“, в „тысячемиллионном стаде счастливых младенцев“, поросят эпикуровых, учеников Карла Маркса, у которых пар вместо души — бесчисленных маленьких, успокоенных под властью Зверя, Карамазовых и Смердяковых, даже не в зверином, а в скотском царстве, противоставленном царству Божьему, в страшной социал-демократической Вавилонской башне, „хрустальном дворце“ всемирной сытости — не сказывается ли эта именно, угаданная Смердяковым глубочайшая сущность Ивана — любовь к „спокойному довольству“ во что бы то ни стало, любовь к беспочвенной середине? — Сущность всей нашей европейской и американской белолицей китайщины, грядущего „серединного царства“ с его „бесчувственной космополитической мразью“, сущность нашего современного позитивного и буржуазного Черта, бессмертного Чичикова, купца „Мертвых душ“ и купца Брехунова, душа барина помещика Нехлюдова, Ростова, да и самого Л. Н. Толстого (опять мой курсив. — Л. Ш.) и душа лакея Лаврушки, барина Карамазова и лакея Смердякова».[238] Эх, угораздило написать человека! Положительно, по мне должно быть стыдно чувствовать себя таким благородным и возвышенным! И этот огромный период à la Ницше… А ведь я бы мог выписать десятки, чуть ли не сотни таких периодов, в которых Толстой, Ницше, а подчас и сам Достоевский оказываются пошляками, Смердяковыми, лакеями, Чичиковыми, «поросятами, у которых пар вместо души» и т. д. И этот тон настолько доминирует в книге, что остается впечатление, будто Мережковский ни о чем больше не говорил. В сущности, впечатление не совсем правильное. Г-н Мережковский не только разносит Толстого и Ницше: он не забывает и свой синтез. Толстого и «рационализм» ему нужно только устранить, чтобы, как указано выше, открыть путь своей мистической идее.
Кстати, о слове «мистический». Скажу откровенно: не люблю я этого слова и дивлюсь тому, что г-н Мережковский так часто пользуется им. Правда, когда-то, по всем видимостям, это было хорошее, живое, значительное слово. Но, походив долго по рукам, оно от частого употребления совершенно выветрилось и в нем, как в потертом золотом, давно уже нет драгоценного металла — остались только надпись, да лигатура, и в настоящее время ему та же цена, что и фальшивой монете.