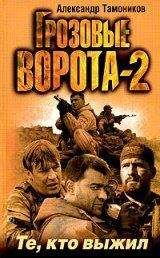Марк Шевелев - Здравствуй, Снежеть!
Готовились в большом секрете, а все же один человек учуял: Лиза Дуля. Возьмите да возьмите, а то сама побегу. Взяли ее и еще Полинку Концур. Маленькая такая, кругленькая, точный катигорошек. Сперва не хотели брать, мала, риск. Та — на дыбки: мол, не хуже вас, не испугаюсь, тоже, дескать, в комсомоле, только билет не успела получить. Даже ребят назвала из старших классов, кто ее рекомендовал. Пришлось взять и Полинку.
Как уж удалось им удрать, кто его знает: проволоку перекусили чем или подкоп сделали, но все семеро в одну ночь ушли. Перед их побегом я как раз свой последний рейс к мосту сделал. Последний, потом лошадь сдохла. Прямо в упряжке у контрольно-пропускного пункта. Никудышная была кляча. Крепких колхозных коней немец еще в сорок первом в Германию отправил.
Когда упала моя лошаденка, всполошились фашисты. Пригнали людей из лагеря, лошадиный труп — на телегу и: «век! век!» Среди лагерных Коля Кириченко был. Нагнулся ко мне и шепчет, чтобы мать ему теплую одежку приготовила. Я сперва не понял, своей бедой голова занята, думал, сюда ему одежду-то, а он моргнул: «Ночью приду». Тогда я скумекал: побег!
Наутро после побега прибывает в лагерь какой-то немецкий чин: как дела с мостом? А ему докладывают о побеге. Ох он и орал! Пальцем тыкал в лоб начальнику окружной фельджандармерии, а тот тоже чин немалый. Сутки дали на поимку. И чтобы в лагерь доставить, на место, и приговор перед всем лагерем. Жандармерия, комендатура, полицаи, старосты — вся свора кинулась ловить.
Тут наши ребята малость оплошали. Рады, конечно, что немцев облапошили, невтерпеж домой пробраться, а того не подумали, что там может быть засада. Надо бы осмотрительнее: пятерым схорониться в лесопосадке, а двоим — в село, в разведку.
Николаюк шумно завозился.
— Оплошали, поспешили… Теперь легко рассуждать. А каково им было тогда? Они и так трое суток в степи прятались. А ведь не лето — октябрь, заморозки, а они в лохмотьях, без еды. Не из гостей шли, с каторги. Еле-еле душа в теле. Думали, проберутся домой, еды, одежды возьмут и — к партизанам.
— А во дворах — засады, — покачал головой водитель, останавливая машину у гостиницы.
Николаюк вышел справиться относительно свободных мест.
— А дальше что? — спросил я водителя.
— Похватали всех, руки веревками скрутили и — в Каменку. Матери следом, пешком. Там к комендатуре близко не подпускают. Эсэсовцы. Полицаи покрикивают: «Пошли вон, бабы, пока не постреляли вас разом с вашими комсомольцами». Не верили матери, что расстреляют детей. Вечером увидели своих издалека. Ребят вели под конвоем в уборную. Хлопцы руками махали, девчата воздушные поцелуи посылали. Лиза, говорят, сильно плакала.
Утром пригнали их в лагерь, к, мосту. Выстроили на плацу весь лагерь: и военнопленных, и цивильных. Огласили приговор: за саботаж и побег — к расстрелу. Связали одной веревкой и повели в кучугуры. Мы, пацаны, на деревьях сидели возле завода металлоизделий — оттуда все видно.
Развязали им руки, как на место привели, заставили яму рыть. Потом на край ямы ставили и прикладом замахивались, чтобы ребята на колени опускались. А те ни в какую. Потом выстрел раздался. Один, другой… Какая-то заминка произошла. Коля Кириченко резко развернулся, толкнул немца в грудь, а сам боком в яму полетел. Василь и Николай Дорошенко рванули в разные стороны. Василя очередью из автомата скосили сразу, а в Дорошенко никак попасть не могли. Пацаны кричат: «Сбежал! Ура! Один сбежал!» Взвод эсэсовцев бил из автоматов — и не могли попасть. Дорошенко зигзагами бежал, галифе на нем были отцовские и белая сорочка.
Добежал он до воды — ушел бы. До войны на спор он Днепр в оба края без передышки переплывал. Пули его у самой воды достали. Фашисты зацепили его веревкой за пояс и потащили наверх к яме. Там еще долго стреляли в него, хотя он лежал, не двигался. Когда откопали, одна дырка прямо во лбу была.
У Коли Кириченко на теле не нашли ни одной царапины. Он до выстрела успел прыгнуть в яму, надеялся потом выбраться, а яму засыпали. У Лизы Дули руки были покусаны, это она, чтобы не закричать, не показать своей слабости.
Вернулся Николаюк. Мы поблагодарили своего добровольного водителя.
— Весь второй этаж для почетных гостей, для освободителей Каменки, — сообщил Николаюк.
Мы попили чаю в маленькой комнатке словоохотливой кастелянши и поднялись к себе. Я устал за день и тотчас прилег. Спутник мой, напротив, возился с эскизами, раскладывал их на столе, выходил в коридор. Оттуда стали вскоре проникать голоса возвращающихся гостей.
…Утром сосед разбудил меня и, пока мы брились, у рассказал о вчерашних своих вечерних встречах, о том, что эскизы мемориала переданы кому следует и поэтому отпала необходимость еще раз ехать в Водяное.
— Тут вчера такие прожекты были! — поделился Николаюк. — Хотят мемориал сделать на Никопольском плацдарме. Думаю, памятник комсомольцам будет что надо!
Через час мы поднялись на палубу белоснежного «Метеора», который отчаливал от каменской пристани. Теплоход вышел из бухты на чистую воду и быстро набрал ход. Проплыла назад узкая прибрежная полоса текучего песка. Это были остатки кучугур, скрытых теперь разлившейся днепровской водой.
— Здесь, на берегу, и поставить бы две фигуры, — сказал мой спутник. — Юноша и девушка разрывают колючую лагерную проволоку…
Теплоход резво бежал по волнам. Вот он достиг одного из уцелевших бетонных быков. Огромный серо-зеленый монолит уродливо торчал среди голубой воды.
— А ведь фашистам так и не удалось достроить мост, — отозвался мой спутник. — Ни один вражеский танк, ни один солдат не прошел по нему…
К месту давнего боя
Мимо дома промчались спаренные трамвайные вагоны: их грохот заглушал все остальные звуки. Когда вдалеке стихло гудение рельсов, раздался настойчивый, очевидно, повторный стук в калитку. За окном хрипло залаяла собака, зазвякала цепью по бетонной дорожке.
Хозяин сказал сыну:
— Посмотри.
Свой очередной отпуск Сергей Андреевич проводил дома. Обычно они с женой ездили в деревню к ее родным или к морю, но теперь обстоятельства вынуждали остаться. Домик, который они с женой выстроили после войны в заводском поселке, уже обветшал. Следовало обновить крышу, крыльцо, кое-где перестелить полы. В последний момент решили и внутреннюю электропроводку заодно сделать. Когда-то думали успеть с ремонтом к возвращению сына из армии, потом уговорили себя: вернется сын — поможет. К сыновней свадьбе тоже не успели, да и забота была иная. Потом ждали внука, а когда он появился, не решились затевать, чтобы ненароком не застудить малыша.
Сергей Андреевич видел через окно, как сын встретил почтальона. Смотрел в окно и не переставал покачивать на коленях годовалого внука. Карапуз сопел, тыкался мокрыми губами в грудь.
Вернулся сын. Принес газеты и письмо.
— Тебе, отец…
Сын взял малыша, отнес в боковую комнатушку, где хлопотали мать с женой, вернулся. Отец задумчиво стоял перед окном. В одной руке — прочитанное письмо, другой озабоченно поглаживал свой голый череп, старую глубокую рану на высоком лбу, где сильнее обычного пульсировала голубая жилка.
— От кого? — спросил сын.
— А куда мы шкатулку задевали? — думая о своем, забеспокоился отец.
Отец и сын лицом были очень схожи: смуглые, большегубые, а вот сложением отец уступал. Был он невысок, узок в плечах, но в поджаром, жилистом теле, ладно обтянутом старой трикотажной футболкой, угадывалась зрелая мужская сила.
Найденную сыном шкатулку Сергей Андреевич приспособил на подоконник. Он вынул оттуда новенькие орденские планки, старые, позеленевшие медали, высыпал пригоршню значков, извлек удостоверение народного дружинника, сложенную вчетверо Грамоту министерства черной металлургии. Последним извлек потертый, растрепанный блокнотик с давно загнувшимися по углам листочками.
Все вещи, кроме этого блокнотика, сложил обратно в шкатулку. Осторожно открыл огрубелыми от постоянной работы с металлом пальцами обветшалую обложку, аккуратно перевернул оторвавшиеся листочки…
Письмо прислали из Донбасса. Писали, что ищут его давно, но только теперь напали на след. Краснополянский сельсовет решил поставить памятный знак на месте, где несколько солдат-разведчиков ввязались в ночной бой с эсэсовским гарнизоном. Старожилы помнили, как было дело, а вот фамилий разведчиков никто не записал: ни погибших, ни оставшихся в живых.
Оставалось порадоваться теперь, что сохранил блокнотик. До самой государственной границы записывал, какое село освободили, какой город. Потом пошли другие названия, чужие, и не разобрать. А Ореховку, Щетово, Красную Поляну он на выцветших страничках отыскал. Здесь же были имена погибших Вали Матвеева и Саши Серебрякова, значилось число — двадцать третье февраля, и было к чему-то помечено, что всю ночь валил мокрый снег.