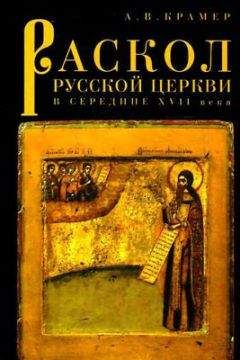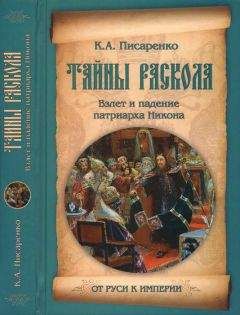Николай Лесков - С людьми древлего благочестия
— Чтой-то у вас больная, что ль? — спрашиваю бабу, пришедшую за самоваром.
— Больная, батюшка.
— Что ей?
— Господи ее знает.
— Зашиблась что ли?
— Н… нет, — так должно не по себе.
Ну, не по себе и не по себе.
Улеглись мы на диванчиках спать со скуки. А больная все ох да ох. Уснули, или по крайней мере я уснул и даже крепко уснул.
Вдруг слышу стоны раздирающие. Как заведет баба одно ойййй, так и конца этому ой не дождаться. Вскочил я, смотрю, а актриса наша надо мной стоит и трясет меня за плечо. «Встаньте, — говорит, — слышите, какое терзание!»
— Что это? — спрашиваю.
— Не знаю, — это уж с час идет, и все хуже и хуже.
— Что ж такое? умирает она?
— Мне кажется, она в муках, родит она, кажется.
— Ну что ж, — говорю, — делать, тут ничем не поможешь.
— Да чего, — говорит, — не поможешь, она ведь одна там мучится.
— Как одна?
— Одна. Я не спала, не могла заснуть, я все слушала: никого возле нет.
Я сейчас бабу, что самовар приносила.
— Кто у вас тут? — спрашиваю ее.
— То-то, — говорит, — я говорила, не пущайте заезжих, не пущайте, баба совсем рассыпалась, как можно! а нет-таки по-своему, — пустили: вот тебе и дело.
— Какое дело?
— Да ишь, ни вам упокою, ни ей.
— Да она с кем у вас там рожает-то?
— С кем же ей рожать? Одна рожает.
— Отчего же вы бабки не позовете?
— Да бабка-то есть тут одна, да далече, послали за ней с час места будет, да вряд застанут, много у нее повою по округе.
— А ближе нет другой!
— Нетути, — у нас на деревне нетути: наши этим не займаются.
— Так вы хоть семейских кого послали бы к ней. — А роженица за перегородкой так и воет.
Баба подперлась рукой, задумалась и пошла к двери.
Купца нашего не было; он пошел в кузню. Мы с попутчицей сели и, слушая невыносимые стоны одинокой роженицы, рассказывали друг другу разные, известные нам случаи беспомощности больного сельского люда. Так прошло опять с полчаса. Роженица стала вскрикивать еще страшнее, да так, что уж вскрикнет, но на половине звука как-то голос у нее оборвется и замрет, и только по трескучему скрипу кровати слышно, как она дергается, закусив зубы, в жестоких муках.
Не выдержал я, пошел в избу. В избе только одна та же самая баба печку загребает.
— Что же, — говорю, — никто не идет к роженице?
Баба взглянула на меня и, продолжая загребать жар, проговорила: «Да кому идти-то, молодец?»
— Бабы где ж?
— Да нетути баб.
— Совсем в семье и баб нет?
— Нетути.
— Ну сама иди.
— Я боюсь.
— Ну соседку попроси какую-нибудь.
— Гм!
— Что?
— Так тебе и пойдет суседка-то! держи, малый, шире.
— С чего не пойдет?
— А не пойдет, да и сказ весь.
— Где же сожитель-то ее?
— Со двора уехал.
Вернулся я в горницу и рассказал все актрисе. Барыня моя вскипела.
— Ах, Господи! — говорит. — Да я пойду, попросите ее, чтоб меня пустила к ней, я не боюсь.
Я опять пошел в избу и говорю, что вот наша барынька хочет помочь.
— Она бабит, что ль?
— Бабить, — говорю, — не бабит, а все лучше как одной мучиться.
— Это что говорить, знамо, что лучше; все же живой человек.
— Ну то-то, — проводи-ка ее.
— Сичас, сичас.
Баба сняла с запечка маленький ключик и пошла впереди меня.
— Это она у вас заперта?
— Заперла я ее, родимый, чтоб собака как не вскочила к ней.
Актриса пошла к роженице, а баба так минут через пять вышла ко мне.
— Это барынька-то жена тебе, что ли, будет? — пытается.
— Жена, — говорю.
Пауза. Баба стала стирать фартуком стол, на котором остались крошки мерзлой московской сайки от нашего чаю.
— Давно женат-то ты?
— Два года.
— Ребятенки небось есть?
— Нету.
— Что ж так плохо стараетесь?
— Некогда, — говорю.
— В разъездах, что ль, все?
— Да.
— Ну, парень, на это время немного надо.
— Это, — говорю, — ты справедливо рассуждаешь. А ты вот скажи-ка, что вы за свиньи такие.
— Чем так свиньи?
— Да вот бабу-то мучите и никто пальцем не ворохнет. Ведь у вас есть бабы в доме. Я двое красен видел, — ты же за двумя станами не сидишь. Где баба другая?
— Это ее красна.
— И пряжа ее?
— Милый человек! что ты знаешь? Ничего ты, милый человек, не знаешь, — проговорила, вздохнув, баба.
— Точно, — отвечаю ей, — ничего я, миленькая тетинька, не знаю.
— В нашем-то звании все, миленький, вот так-то: молода да легка, так все «поди сюда», а затяжелела, так и милу дружку надоела.
— Вы по-древнему, что ль?
— Да по-древнему ж, по-древнему.
— Не венчаетесь?
— Нет, у нас этого нет, — у нас так.
— Федосеевцы?
— Как говоришь?
— Федосеевцы вы? — повторяю вопрос.
— Нет, мы как есть по-настоящему, по-самому по-древнему.
Бабы, да и мужики редко когда знают, какого толка держится их сословие. «По-древнему», да и все тут.
— Плохо ж, — говорю, — вам по вашему званию-то достается.
— И не говори!
Баба и рукой махнула.
— У нас, я тебе скажу, — начала она, садясь возле меня на диванчике, — мужик баловник, козел мужик, похотник. Он тебе бабу никогда не сожалеет. Никогда он ее не сожалеет. Редкий, редкий такой найдется, что своим детям родительницу почтит, как следует, а то вот так-то боли, мучься ребеночком-то (баба указала рукою за перегородку, из-за которой продолжались стоны и утешающие больную слова бесовской лицедейки), — мучься ими, — продолжала баба, — а ни воскормить ты свою детку, как следует, у себя не смей, ни дитем его не зови. Наша жисть, милый, бабья беда, в нашем в звании… Мужик, что ему? Одна плоха, другую найдет. Нашей сестры-то ведь довольно.
— А бабы-то семейские, — тихонько спрашиваю, — куда поразбегались?
— Кто куда глянул, — шепотом и с таинственной миной отвечала раскольница и потом, вздохнув, добавила: — Ты, парень, за это баб наших не ругай. Баба бы иная и вот всей тебе душенькой. Вот хошь ба и я — нешь мне хорошо видеть, что вон чужая, да и та жалится по ней. Нешь бы какая, разве змея, не похлопоталася, а то ну кто ба бросил свою сестру в такой муке-то, что может иная еще и на себя дождется? Никто ба не бросил. Милый ты человек! никто ба не бросил свою сестру, — все с большим и большим чувством искреннего сострадания говорила баба. — Сердце-то мое, может, тоже туда рвется, — она опять указала на перегородку, — да закон, закон у нас такой. А в своем законе всякий человек должен быть верен. Должен он сердце свое завсегда воздерживать — блюсти себя должон в своей вере.
— Какая, — говорю, — вера тут, чтобы людям помочь нельзя!
— Что ты! что ты! Господи Исусе Христе! Как какая вера?
— Это, — говорю, — дурак тебе какой-то наговорил.
Баба плюнула.
— Осатанел ты, молодец, право! Что это ты говоришь на святую веру христианскую? Ведь и сам ты небось какой ни на есть, да крещен, чай.
— Я не на христианскую, а на ту, что вот велит от больной бабы из двора бежать.
— А ты лучше вот что, — баба внушительно ударила меня рукою по колену, — ты старых людей послушай, что старые люди говорят. Они, миленький, больше нашего с тобой знают-то; жисть-то они ведут не нашу, что ни ступил, то согрешил. У нас теперь, я тебе скажу, есть духовник, старый, древний человек, отец Сигней. Далеко таки он живет, под сокрытием, знаешь, от псов-то от борзых, а только часто к нам наезжает. Так вот его послушай. Он все это тебе может рассказать. Ты вот говоришь, что хворых баб бросаем. Мы хворых не бросаем, а это скверна-то, скверна-то рожденная, так ее омыть нечем. В старину, как имели мы священство, не бросали, а теперь священства негде взять, — на небе оно, священство-то наше: венчать некому и молитвою от скверны рожденной очистить некому. Вот почему, голубь сизый, и обегаем скверны-то этой и не прикасаемся к бабе-то, пока она в скверне. На все, милый, свой закон есть: старики тоже не с ветру уставляли.
— Врет, — говорю, — ваш Сигней, я федосеевщины, вашего-то согласия много видал, а нигде этого не слыхивал.
— Везде так, везде. Ты и не спорь. Скрозь так по селам. Точно, не хочу спорить, может быть, и есть такие, что не блюдутся, где наставник плох, или новшестна тоже зашли, ну а у нас ни Боже мой! У нас насчет этoгo строго.
— Да кто ж у вас бабит-то? — спрашиваю. — Церковные, что ль?
— Больше церковные, а то есть тоже и из наших, только уж такие бабы, совсем, значит, отдельные, потому хорошая баба, у которой свой притул где-нибудь есть, на это дело не пойдет.
— С чего ж не пойдет?
— Ну зазорно, — сам ты посуди, ни есть с тобой никто не станет, ни к молитве тоже опять не допускают. Посуди сам, хорошо это бабе-то этой?
— Кто ж у вас тут бабка, за которой послали-то?