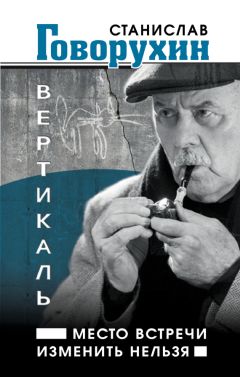Станислав Рассадин - Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском
— Если и так, — живо возразил Горбачевский, — то я и мои товарищи готовы взять на себя роль Эдипа!
Муравьев улыбнулся:
— То есть раскусить все сфинксовы хитрости? Каламбур недурен, но…
— Нет, позвольте! — в пылу Иван Иванович не посчитался с чинопочитанием. — Вы меня не поняли. Разумеется, всех политических тонкостей солдатам покамест вовсе нет нужды открывать. На то есть другой язык, такой, какой они отлично поймут, только бы мы соображались с их понятиями. К тому ж у всякого командира есть столько способов повести за собою солдат, что ежели они во время восстания не пойдут за ним охотою, это следует приписать не чему иному, как только его нехотению или попросту нерадению. Не так ли?
Он глянул на Муравьева, и взгляд его в ту минуту был, вероятно, задирист, ибо он чувствовал себя по-мальчишески довольным сугубой неотразимостью своих доводов.
— Да, да… Вы правы… — но и само согласие Сергея Ивановича дано было как бы в рассеянии или, напротив, сосредоточенности. Муравьев ушел в глубь себя, очевидно обдумывая какую-то скрытую мысль.
Вдруг он поднялся резко, прошел, широко шлгая, в угол своего балагана и воротился с ларцом. Не открывая, поставил его на колено.
— А знаете ли, каков, по моему мнению, лучший способ воздействовать на солдат?
Горбачевский, не отвечая, ждал.
— Религиею!.. Да, да, господин подпоручик! Мне сказывали, правда, про вас, что вы, подобно другим из ваших товарищей, склоняетесь к афеизму… Прошу вас, не возражайте и не удивляйтесь моей осведомленности: вы понимаете, что мы должны были знать, с кем хотим соединить судьбу своего общества… Но успокойтесь, я вовсе не намерен затевать теологический диспут — им, может быть, настанет черед при демократическом правлении, когда всякий станет открыто изъявлять свои убеждения. Каковы бы ни были ваши взгляды, я полагаю, вы не можете не согласиться, что религия всегда будет сильным двигателем человеческого сердца. Она может указать путь к добродетели. Повести к великим подвигам н Доставить мученический венец…
Горбачевский молчал и слушал, успевая думать, что, наверное, выглядит избычившнмся упрямцем, но Муравьев в увлечении ничего этого не примечал.
— И более! Чтение Библии способно внушить нашим солдатам ненависть к правительству! Вспомните: иные главы ее содержат прямые предостережения народам, пожелавшим избрать царя и повиноваться ему.
Он легким, победным движением, словно оно одно само по себе должно было согласить несогласного, распахнул ларец, извлек исписанный лист, развернул его:
— Извольте!
Иван Иванович протянул руку, глянул и увидел то, что уже почти ожидал увидеть: конечно, то был перевод главы Ветхого завета, повествующий о мрачном пророчеству Самуила народу, захотевшему иметь царя.
— Ну? — торопил Муравьев. — Если солдат узнает повеление, данное от самого бога, разве не согласится он, не колеблясь, обратить оружие против своего государя?
Горбачевский, стойко помалкивая, читал перевод, не пропуская ни единой строки, будто ожидал повстречать в нем нечто новое сравнительно с текстом Писания, знакомым с младых ногтей. И сквозь агитационную скоропись, косо брошенную на бумагу твердой рукой Апостола, сквозь неузнаваемо легкие, поворотливые, новорусские слова для него проступало, как сладкая взрослая память о горьких лекарствах детства, то, что было затвержено под строгим присмотром отца и ради утешения матушки — для нее, покойницы, вообще не было большей гордости, как к случаю и не к случаю поминать о родстве своем, а стало быть, и ее Ванечки с самим Георгием Конисским, архиепископом-златоустом, поборником православия. Проступала парчовая тяжесть церковного слога: «И рече Самуил вся словеса господне к людям просящим от него царя… и глагола им… сыны ваша возьмет… и дщери ваша возьмет… и села ваша и винограды ваша возьмет… и вы будете ему раби… и возопиете в день он от лица царя вашего, его же избрасте себе, и не услышит вас Господь в день он, яко вы сами избрасте себе царя…»
Дочитал, как доел, бережно — до последней крошки, по буковки. Не торопясь, сложил лист и сам опустил его в незакрытый ларец.
— Это все очень хорошо, господин подполковник…
Теперь ждал Сергей Иванович, не обманываясь скорым одобрением.
— Очень хорошо. Но…
На лицо Муравьева медленно наплывала непреклонность, возвращая знаменитое сходство.
— Да возможно ли, — продолжал Горбачевский, — объясняться с русским человеком на языке духовных особ? Неужели вы не знаете, как он смотрит на них? Я думаю, между нашими солдатами скорее найдутся сущие вольнодумцы, нежели фанатики веры, и очень легко может статься, что здравый смысл заставит иных возразить… — Тут он, надо признать, не удержался, чтобы не щегольнуть ученостью. — Возразить, что запрещение израильтянам избирать себе царя было совсем не божье повеление, а козни священников-левитов, желавших поддержать теократию…
Муравьев сморщился от такого витийства.
— Подпоручик! Неужто вы впрямь полагаете, будто наш простой народ пустится в этакие богословские прения?
— Нет, господин подполковник! — отступил ИванИванович, но так, как отступают для нового натиска. — Разумеется, я этого не полагаю. То есть и в моей роте сыщутся такие доки по части Священного писания, что полкового священника за пояс заткнут, но… Не о них речь. Ведь и самому неученому из солдат, право, достанет здравомыслия заметить вам то, чего не заметить просто нельзя. «Что ж это вы, господа хорошие?» — скажет вам мой солдат, которого, не стану от вас скрывать, я, именно я, Горбачевский, посильно учу до всего доходить своим рассудком. — «Что ж это вы? Мне сызмальства в вашем приходе поп вбивал в темя, что по Новому завету господа нашего Иисуса Христа идти супротив царя — значит идти супротив бога и религии, а нынче, когда вам угодно доказать, что царя вовсе не надобно, нынче, значит, вы уж за Ветхий завет беретесь?»
Он встал и остался стоять, одним разом показывая и почтительность перед старшим в чине и твердость.
— Вера противна свободе, господин подполковник, — таково мое убеждение, и простите, но я более не прикоснусь до вашего листа. Я всегда предпочту с моими солдатами прямой и откровенный язык…
На том и кончился разговор о вере — не в господа бога, но в солдата, — точнее, на том оборвал его Михаил Бестужев-Рюмин, вмешавшийся в уединенную их беседу. И точно ли таков — до словечка последнею, до точки — был этот давний спор?
…Прихотливая, властная, завистливо-притязательная дама — Мнемозина, богиня памяти, и, зная за ней способность присваивать то, что ей не совсем по праву принадлежит, Иван Иванович в веселое назидание себе вспоминал иной раз красочную историю, некогда поведанную каторжному обществу Александром Ивановичем Якубовичем.
— Мы с Грибоедовым…
Якубович вдруг прервался на первых же словах, отчего-то взглянул на правую свою руку и попробовал пошевелить двумя пальцами, мизинцем и безымянным, которые у него не сгибались как следствие раны.
— Мы с Грибоедовым однажды поссорились — и прежестоко. Я его вызвал на дуэль, каковая и состоялась. Он стрелял первым, дал по мне промах, и тогда я отложил свой выстрел, сказав, что приеду за ним в другое время, когда узнаю, что он будет более, нежели сейчас, дорожить жизнию. На том и расстались. Я ждал с год, следя за Грибоедовым издали, и наконец узнаю, что он женился и наслаждается полным счастием. Прекрасно! Теперь, подумал я, настала моя очередь послать противнику свой выстрел, который должен быть роковым, ибо всем известно что я не даю промаху. Боясь, что меня не примут, ежели назовусь моим настоящим именем, я оделся черкесом и явился к нему в дом. «Как прикажете доложитъ?» — «Скажи барину, что пришел его кунак Якуб…» Так меня величали на Кавказе горцы: Якуб — большая голова… Велено меня пропустить. Я вхожу в кабинет, где в этот час хозяин занимается один, и первым делом моим было замкнуть за собою дверь и ключ спрятать в карман.
Якубович с диким вдохновением наморщил свой раненый лоб, свел густые брови, которые, впрочем, и без того составляли у него единую черную полосу, и выпятил подбородок, раздвоенный, как рукоятка черкесского ятагана.
К этой минуте у слушателей уже давно было ощущение, у кого смутное, у кого отчетливое, что рассказ этот они то ли слыхали, то ли даже видели в печати, но рассказчик с такою страстью заново переживал происшедшее, пылал такой невыдуманной местью, что невозможно было слушать его, не веря.
— Грибоедов был чрезвычайно изумлен, но все понял и, надобно признать, встретил меня, не дрогнув. Я изъяснил, что пришел за моим выстрелом. Мы стали по концам комнаты, и я начал медленно наводить свой пистолет, желая этим помучить и подразнить его, так что он наконец пришел в сильное волнение и просил скорее покончить. Тогда я вдруг понизил ствол, раздался выстрел, Грибоедов вскрикнул, и, когда дым рассеялся, я увидел, что попал, куда хотел. Я не желал лишать его жизни, но раздробил ему палец на правой руке: я знал, что он страстно любит играть на фортепиано и лишение этого будет для него ужасно. «Вот вам на память!» — вскрикнул я, отмыкая дверь и выходя из дому. На выстрел и крик сбежались жена и люди, но я свободно вышел, пользуясь общим смущением, а также блестевшим за поясом кинжалом и пистолетами.