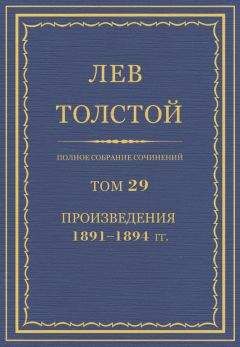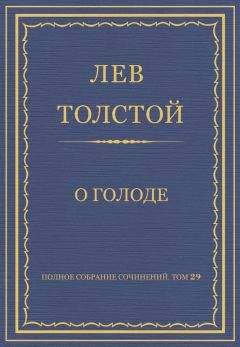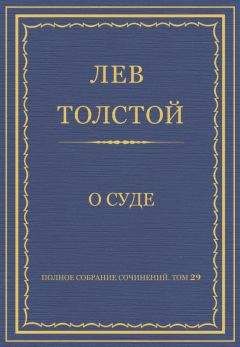Лев Толстой - ПСС. Том 29. Произведения 1891-1894 гг.
По царствующему самому распространенному современному ее учению о жизни увеличение потребностей считается, напротив, желательным качеством, признаком развития, цивилизации, культуры и совершенствования. Люди так называемые образованные считают, что привычки комфорта, т. е. Изнеженности суть привычки не только не вредные, но хорошие, показывающие известную нравственную высоту человека, почти что добродетель.
Чем больше потребностей, чем утонченнее эти потребности, тем считается это лучше.
Ничто так ясно не подтверждает этого, как описательная поэзия и в особенности романы прошедшего и нашего века.
Как изображаются герои и героини, представляющие идеалы добродетелей?
В большинстве случаев мужчины, долженствующие представить нечто возвышенное и благородное, начиная с Чайльд–Гарольда и до последних героев Фелье, Троллопа, Мопассана, — суть но что иное, как развратные тунеядцы, ни на что, ни для кого не нужные; героини же — это так или иначе, более или менее доставляющие наслаждение мужчинам любовницы, точно так же праздные и преданные роскоши.
Я не говорю о встречающемся изредка и литературе изображении действительно воздержных и трудящихся лиц, — я говорю о типе обычном, представляющем идеал для массы, о том лице, похожим на которое старается быть большинство мужчин и женщин. Помню, когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился и с которым боролся, — и с которым теперь, я знаю, борются все романисты, имеющие хотя самое смутное сознание того, что составляет действительную нравственную красоту, — заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который бы был верен действительности.
V
Несомненным доказательством того, что действительно люди нашего времени не только но признают того, что языческое воздержание или христианское самоотречение суть свойства желательные и добрые, но считают увеличение потребностей чем–то хорошим и но, служит то, как в огромном большинстве воспитываются дети нашего мира. Их не только не приучают к воздержанию, как это было у язычников, и к самоотречению, как это должно быть у христиан, по сознательно прививают им привычки изнеженности, физической праздности и роскоши.
Мне давно хотелось написать такую сказку: женщина, оскорбленная другой, желая отметить ей, похищает ребенка своего врага, идет к колдуну, прося его научить, чем она злее всего может отметить своему врагу на единственном похищенном детище. Колдун научает похитительницу отнести ребенка в место, которое он указывает, и утверждает, что месть будет самая ужасная. Злая женщина делает это, но следит за ребенком и к удивлению своему видит, что ребенок взят и усыновлен бездетным богачом. Она идет к колдуну и упрекает его, но колдун велят ждать. Ребенок растет в роскоши и изнеженности. Злая женщина в недоумении, но колдун велит ждать. И действительно наступает время, когда злая женщина удовлетворена и даже жалеет свою жертву. Ребенок вырастает в изнеженности и распущенности и, благодаря своему доброму характеру, разоряется. И тут начинается ряд физических страданий, нищеты и унижений, к которым он особенно чувствителен и с которыми не умеет бороться. Стремление к нравственной жизни — и бессилие изнеженной, приученной к роскоши и праздности плоти. Тщетная борьба, падение всё ниже и ниже, пьянство, чтоб забыться, и преступление, или сумасшествие, или самоубийство.
В самом деле, нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире. Только злейший враг мог бы так старательно прививать ребенку те слабости и пороки, которые прививаются ему родителями, в особенности матерями. Ужас берет, глядя на это и еще более на последствия этого, если уметь сидеть то, что делается в душах лучших из этих старательно самими родителями погубляемых детей.
Привиты привычки изнеженности, привиты тогда, когда еще молодое существо не понимает их нравственного значения. Уничтожена не только привычка воздержания и самообладания, но, обратно тому, что делалось при воспитании в Спарте и вообще в древнем пире, совершенно атрофирована эта способность.
Не только не приучен человек к труду, ко всем условиям всякого плодотворного труда, сосредоточенного внимания, напряжения, выдержки, увлечения делом, уменья исправить испорченное, привычки усталости, радости совершения, но приучен к праздности и пренебрежению всяким произведением труда, приучен к тому, чтоб портить, бросать и вновь за деньги приобретать всё, что вздумается, не думая даже никогда о том, как что делается. Человек лишен способности к приобретению первой по порядку добродетели, необходимой для приобретения всех других, — благоразумия, и пущен в мир, в котором проповедуются и как будто ценятся высокие добродетели справедливости, служения людям, любви. Хорошо, если молодой человек—натура нравственно слабая, но чуткая, не чующая разницы между показной доброй жизнью и настоящей, и которая может удовлетворяться царствующим в жизни злом. Если так, то всё устраивается как будто хорошо, и с непроснувшимся нравственным чувством такой человек иногда спокойно доживает до гроба. Но не всегда это так бывает, в особенности в последнее время, когда сознание безнравственности такой жизни носится в воздухе и невольно западает в сердце. Часто, и всё чаще и чаще, бывает так, что требования настоящей, непоказной нравственности пробуждаются и тогда начинаются внутренняя мучительная борьба и страдания, редко кончающиеся победой нравственного чувства. Человек чувствует, что жизнь его дурна, что ему надо изменить ее всю с самого начала, и он пытается это сделать; но тут люди, прошедшие ту же борьбу и не выдержавшие ее, со всех сторон нападают на пытающегося изменить свою жизнь и стараются всеми средствами внушить ему, что этого вовсе и не нужно, что воздержание и самоотречение не нужны для того, чтобы быть добрым, что можно, предаваясь объедению, наряжанию, физической праздности, даже блуду, быть вполне хорошим, полезным человеком. И борьба большей частью кончается плачевно. Либо измученный своей слабостью человек подчиняется этому общему голосу и подавляет в себе голос совести, кривит свой ум, чтобы оправдать себя, и продолжает вести ту же развратную жизнь, уверяя себя в том, что он выкупает ее верой во внешнее христианство или служением науке, искусству; либо борется, страдает и сходит с ума, или застреливается. Редко бывает то, чтобы среди всех соблазнов, окружающих его, человек нашего мира понял то, что есть и было тысячелетия тому назад азбучной истиной для всех разумных людей, именно то, что для достижения доброй жизни надо прежде всего перестать жить дурной жизнью и что для достижения каких–либо высших добродетелей надо прежде всего приобретать добродетель воздержания или самообладания, как определяли ее язычники, или добродетель самоотречения, как определяет ее христианство, — и стал бы понемногу усилиями над собой достигать ее.
VI
Я только что читал письма нашего высокообразованного передового человека, сороковых годов, изгнанника Огарева, к другому еще более высокообразованному и даровитому человеку — Герцену. В письмах этих Огарев высказывает свои задушевные мысли, выставляет свои высшие стремления, и нельзя не видеть, что он, как это и свойственно молодому человеку, отчасти рисуется перед своим другом. Он говорит о самосовершенствовании, о святой дружбе, любви, о служении науке, человечеству и т. д. И тут же спокойным тоном он пишет, что часто раздражает приятеля, с которым живет, тем, что, как он пишет «возвращаюсь (домой) в нетрезвом виде или пропадаю долгие часы с погибшим, но милым созданием»… Очевидно, замечательно сердечный, даровитый, образованный человек не мог даже представить себе, чтобы было что–нибудь хоть сколько–нибудь предосудительного в том, чтобы он, женатый человек, ожидая родов жены (в следующем письме он пишет, что жена его родила), возвращался домой пьяный, пропадая у распутных женщин. Ему в голову не приходило, что пока он не начал бороться и хоть сколько–нибудь не поборол своего поползновения к пьянству и блуду, ему о дружбе, любви, а главное о служении чему бы то ни было и думать нельзя. А он не только не боролся с этими пороками, но, очевидно, считал их чем–то очень милым, нисколько не мешающим стремлению к совершенствованию, а потому не только не скрывал их от своего друга, перед которым он хочет выставиться в лучшем свете, но прямо выставлял их.
Так это было полстолетия тому назад. Я застал еще этих людей. Я знал самого Огарева и Герцена, и людей того склада, и людей, воспитанных в тех же преданиях. Во всех этих людях было поразительное отсутствие последовательности в делах жизни. В них были искреннее горячее желание добра и полнейшая распущенность личной похоти, которая, казалось им, не может мешать доброй жизни и произведению ими добрых и даже великих дел. Они сажали помешанные хлеба в истопленную печь и верили, что хлеба испекутся. Когда же под старость они стали замечать, что хлеба не пекутся, т. е. что никакого добра от их жизни не совершается, они видели в этом особенный трагизм.