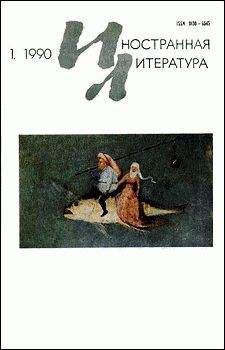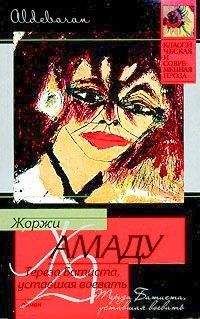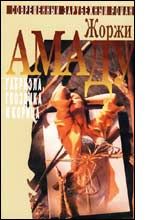Виталий Шенталинский - Рабы свободы: Документальные повести
Таким образом, то, что происходит в зале Дома союзов, — это не борьба по-гамбургски.
В. Шкловский и Мих. Булгаков требуют прекратить фабрикацию «красных Толстых», этих технически неграмотных «литературных выкидышей». Пора перестать большевикам смотреть на литературу с узко-утилитарной точки зрения и необходимо наконец дать место в своих журналах настоящему «живому слову» и «живому писателю». Надо дать возможность писателю писать просто о «человеке», а не о политике.
Несмотря на блестящие отповеди т.т. Воронского и Лебедева-Полянского, вечер оставил после себя тягостное, гнетущее впечатление. Ничего не понял и не уразумел «старый писатель» за 8 лет и посейчас остается для нового читателя чужим человеком. Этот диспут — словно последняя судорога старого, умирающего писателя, который не может и не сможет ничего написать для нового читателя. Отсюда внутренняя неудовлетворенность и озлобленность на современность, отсюда скука, тоска и собачье нытье на невозможность жить и работать при современных условиях.
Начальник 5 Отделения СО ОГПУ Славатинский
Рядом с этим добротным образцом фискального жанра второе донесение о том же диспуте обычного Гепеухова выглядит куда скромнее, но в сути своей подкрепляет выводы главы Пятого отделения:
…Выступление Булгакова. Он говорит, что «надоело писать о героях в кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно надоело». «Нужно писать о человеке», — заключил свое выступление Булгаков.
Его речь была восторженно принята сидящей интеллигенцией, наоборот же, выступление Киршона было встречено свистом интеллигенции и бурными аплодисментами рабкоров и служащих.
«Т. Гендину о Булгакове в его формуляр», — расписался Славатинский.
Что-то нужно было делать с этим Булгаковым. Руки давно чесались. А тут и случай подвернулся. С самого верха грянуло: ударить по сменовеховцам! Сеть завели пошире…
«— Верно, верно! — кричал Коровьев в бессмертном романе „Мастер и Маргарита“. — Вы подтверждаете мои подозрения. Да, он наблюдал за квартирой… И другой у подъезда тоже! И тот, что был в подворотне, то же самое!
— А вот интересно, если вас придут арестовывать? — спросила Маргарита.
— Непременно придут, очаровательная королева, непременно! — отвечал Коровьев. — Чует сердце, что придут, не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут…»
7 мая 1926 года пришли к самому писателю.
Визит серой фигуры
Днем агентурной разведкой через активотделение уточнили место жительства. Прежнее — в Обуховом переулке. Выделили исполнителя — оперуполномоченного Врачева[55]. Выписали ордер за номером 2287, скрепленный подписью начальника Оперативного отдела Паукера[56]:
«Выдан… Врачеву на производство обыска у Булгакова Михаила Афанасьевича…»
Ордер на обыск М. А. Булгакова. 7 мая 1926 года
Обыска? Документ этот не так прост.
На одном листе с ордером, через намеченную пунктиром линию обреза, есть «Талон», адресованный начальнику внутренней тюрьмы ОГПУ: «Примите арестованного…» От руки вписан даже номер дела — «числить за 45», проставлена та же дата — 7 мая и подписи — Г. Ягода и Паукер. Остается только вписать фамилию — и носитель ее окажется за решеткой. Ловушка вроде бы открыта, но одно движение руки — и захлопнется!
Вечером — по испытанной стратегии чекистов действовать в темное время — Врачев отправился в Обухов переулок и, захватив в качестве понятого арендатора дома № 9 Градова, постучал в дверь квартиры № 4.
— Кто там? — донесся женский голос.
— Это я, гостей к вам привели! — бодро гаркнул арендатор.
Дверь распахнулась.
Дальнейшее известно: о том, как производилась операция, рассказала в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна Белозерская, в то время жена Булгакова.
Самого Михаила Афанасьевича не оказалось на месте, без него обыск не начинали. Сидели, молчали. Арендатор рассказал анекдот:
— Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: «Не знаете ли вы, где тут Госстрах?» — «Госстрах не знаю, а госужас — вот!»
Рассказчик захохотал. Опять молчали — до прихода хозяина. И тут гости взялись за дело, не церемонились — переворачивали кресла, кололи их какой-то длинной спицей. Булгаков сказал:
— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю…
Словом, сюжет был совершенно булгаковский — для его книг.
Но вот что именно в точности было изъято и доставлено в ОГПУ, об этом мы узнаем лишь сейчас — из протокола обыска. Врачев явно был проинструктирован заранее: из всего вороха бумаг отобрал только «Собачье сердце» — два экземпляра, перепечатанные на машинке, три тетради дневников за 1921–1925 годы, рукопись под названием «Чтение мыслей» да еще два чужих стихотворных текста: «Послание евангелисту Демьяну Бедному» и пародию Веры Инбер на Есенина — образцы самиздата тех лет.
Операция эта была не единственной в Москве. По городу прокатилась целая волна обысков. Среди пострадавших оказался и Исай Лежнев, редактор журнала «Россия», в котором печатался роман Булгакова. Публикация «Белой гвардии» оборвалась: журнал скоро был закрыт, склад и магазин издательства опечатаны, а сам редактор не только обыскан, но и выслан за границу.
А 12 мая раздался выстрел, отозвавшийся громким эхом в литературных кругах. Покончил с собой беллетрист Андрей Соболь. Случилось это не где-нибудь, а на самом бойком месте — на скамейке Тверского бульвара, рядом с тем «Домом Герцена», где помещался Всероссийский Союз писателей, председателем которого несколько лет был Соболь. Это тоже давний и близкий знакомый Булгакова, поддержавший его в черную годину, напечатавший первый из его московских рассказов. Смерть Андрея Соболя восприняли как трагическую демонстрацию.
Была ли какая-нибудь связь между серией обысков и выстрелом на Тверском бульваре — остается только гадать. Но то, что акции ОГПУ — единый замысел, несомненно. И доказательство тому мы находим в досье Булгакова, в позднейшем обзорном документе, пышно именуемом — «Меморандум». «Осенью 1926 года, — говорится там (непростительный для ОГПУ ляп — путать осень с весной), — во время закрытия лежневской „России“ у ряда бывших сменовеховцев, в том числе и у Булгакова, был произведен обыск. У Булгакова были изъяты его дневники, характеризующие автора как несомненного белогвардейца».
Сменовеховцы — такие, как авторы журнала «Россия», отстаивавшего позицию честного, неангажированного издания, — были чужды политике советской власти, но сотрудничали с нею, надеясь на ее перерождение к лучшему. И репрессии против них не были каким-то самодурством ОГПУ — нет, чекисты просто претворяли в жизнь директивы последнего партийного съезда, объявившего решительную борьбу со сменовеховством. Удар по Булгакову — не исключительный акт, а часть большой охоты на независимых писателей. Цель — запугать, сделать послушными, пресечь все попытки несанкционированного общения и объединения.
Конечно, автора «Белой гвардии» записали в сменовеховцы лишь потому, что он печатал свой роман в их журнале. Сам он никогда к этой группировке себя не причислял и даже относился к ней с антипатией. Но можно считать, он на этот раз еще легко отделался! Знал бы Булгаков, какая туча повисла над его головой.
Совсем недавно из секретных архивов всплыла докладная Генриха Ягоды в ЦК ВКП(б), в которой тогдашний зампред ОГПУ предлагал для разгрома сменовеховцев не только произвести у них обыски, но и «по результатам обысков… возбудить следствие, в зависимости от результатов коего выслать, если понадобится, кроме Лежнева, и еще ряд лиц». Седьмым в этом списке значился Михаил Булгаков, литератор[57].
Ирония судьбы: Булгаков оказался на волоске от высылки за границу — и чуть не получил то, чего не смог добиться потом всю жизнь. Как знать, быть может, он тогда и прожил бы дольше, и личная жизнь его сложилась бы безмятежнее. Но вот вопрос: подарил бы он тогда миру «Мастера и Маргариту»?
Писателя не арестовали, но были арестованы его рукописи, в том числе весьма откровенный дневник, имевший название «Под пятой». Органы вели наблюдение за Булгаковым давно, и он это знал. И сам вел за ними «наблюдение». В изъятом у него дневнике была такая запись:
1925 год. 2 января, в ночь на 3-е.
Забавный случай: у меня не было денег на трамвай, а потому я решил из «Гудка»[58] пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулуние в тумане. Почему-то середина Москвы-реки не замерзла, а на прибрежном снеге и льду сидят вороны. В Замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал «доколе, Господи», — как серая фигура с портфелем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась. Пропустил ее вперед и около четверти часа мы шли, сцепившись. Он плевал с парапета, и я. Удалось уйти у постамента Александру.