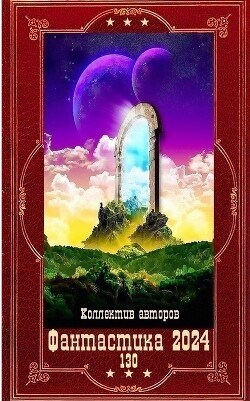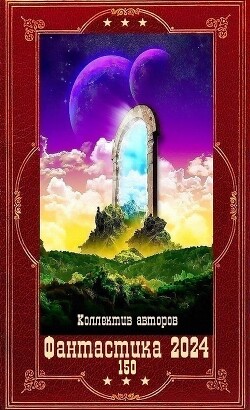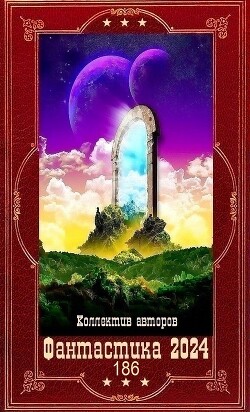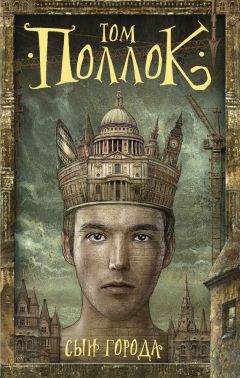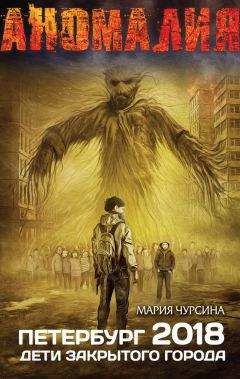Пацаны в городе. Война казанских улиц - Гафаров Артур Айратович
Метки на стене: «Стоять, лежать, бояться!»
Эра «войны за асфальт» оставила неизгладимый след на… стенах казанских домов – время над этим не властно: не помогли никакие капремонты подъездов и обновления фасадов. Сначала эта система отметок несла вполне понятный смысл – если на доме стоял «лейбл» какой-то группировки, то дом, значит, был расположен на территории ее влияния. Но потом логотипы начали оставлять, где придется, – по принципу «мы здесь были»…
Общее количество логотипов тех времен составляет несколько сотен – поэтому мы выбрали только 30 из всех: самые оригинальные из этой настенной «граффити» и самые узнаваемые в городе (а может, и за его пределами!) Надо обратить внимание на то, что над каждым знаком обычно ставили символ короны – своеобразная отметка избранности, а английская «S» в конце каждой аббревиатуры означала просто слово «сила» (иногда даже так и подписывали снизу – «sila»).
Но «короли» подчас за секунду превращались в… «шутов» – к знаку короны недруги подрисовывали бубенцы шутовского колпака. Получается, что своеобразная «война» в те времена велась даже на стенах наших домов [1]…

«Тяп–Ляп» или «Теплоконтроль» – самая известная группировка Казани, по иронии судьбы, делит свой логотип с… группировкой «Тукаевская», только расшифровка разная: в первом случае ТК – это «Теплоконтроль», а во втором – «Тукаевские короли». К логотипу «Тукаевских» часто приписывали серьёзное уточнение «Улица смерти».
Дурные новости подобного рода приходили отовсюду – один мой друг ходил на лекции в институт с… металлической арматурой, завернутой в газету: на всякий случай, для самообороны. Я понял, что молчать уже нельзя – написал за несколько дней пять страниц текста и направился в редакцию самой популярной газеты в Казани. Благо я знал, к кому обратиться – Людмила Ивановна Толмачева (Колесникова) курировала в «Комсомольце Татарии» всех начинающих журналистов: многие мои одногруппники прошли через ее «школу молодого журналиста». Она прочитала мой текст, как-то странно и взволнованно посмотрела на меня, потом резко выскочила из кабинета со словами: «Я к редактору!» Еще несколько минут – и все пришло в движение, какая-то волна возбуждения захватила всех: я даже в своих самых смелых фантазиях не мог рассчитывать на такой «взрывной эффект».
Легендарный редактор «Комсомольца» Анатолий Васильевич Путилов сказал: «Мы берем твой текст за основу, но с ним надо работать – доведем твой материал до ума», и назначил мне… трех кураторов. Один раз в неделю в течение месяца я приезжал в редакцию, и начиналась коллективная работа – кроме Людмилы Ивановны мне помогали Виталий Хашев и Валерий Нугманов. Художник Олег Соломатин создал к нашему общему материалу броскую иллюстрацию: в общем, мы все понимали, что к Новому году преподнесем этому городу очень необычный подарок…
Путилов был редактором смелым и авторитетным, не боялся браться за самые острые темы, но я думаю, что нам помогло время: правление Андропова было коротким, но запоминающимся – показалось, что страну ждут большие перемены. Через 50 дней такой материал не мог быть напечатан в принципе – при Черненко все газеты снова заговорили о «торжестве коммунизма».
Но мы успели – публикация с риторическим вопросом «от Макаревича» (признан в России иностранным агентом – кто знал, что через 40 лет он станет в этой стране иноагентом!) вышла 25 декабря 1983 года и вызвала небывалый резонанс: мешки с письмами были лучшей оценкой нашей работы – и с этим приходилось считаться на любом уровне. Тем более что уже через несколько месяцев появились новые публикации на эту тему – в рамках тех же обзоров писем и откликов на «Кого ты хотел удивить?»
А я, 17-летний студент с казанской окраины, весь следующий месяц потратил на знакомство с высокими персонами – за мной приезжала черная «Волга» и везла меня на площадь Свободы, где я поэтапно пил кофе сначала с первым секретарем обкома ВЛКСМ, потом со вторым и третьим. Кончилась вся эта эйфория тем, что в редакцию пришли люди в строгих черных костюмах – сотрудники госбезопасности начали изучать все материалы по теме подростковых группировок, а я получил… персонального куратора от КГБ – на шесть ближайших лет, вплоть до окончания университета.
Это, с одной стороны, означало, что государство перестало стыдливо замалчивать тему «казанского феномена» – после наших публикаций запреты были сняты. Но при этом в городе ничего не менялось: никто не понимал, что с этим делать. Пока все обвиняли в появлении подростковых банд… однотипные жилые комплексы с девятиэтажными коробками – «война улиц» только набирала мощь.
В 1986 году я, волею случая, побывал в редакции журнала «Студенческий меридиан» – столичные журналисты окружили меня в баре гостиницы «Орленок» и несколько часов расспрашивали о том, как мы умудряемся жить в этом «страшном городе». Нашумевший уже и взорвавший все рейтинги сериал «Слово пацана» – это, по сути, еще один взгляд Москвы на нашу криминальную историю. Просто еще одна версия…
Впрочем, рассказ о двух приятелях из разных миров, где один ходит в музыкалку, а второй «мотается за район» – это почти калька моей реальной истории. Мой приятель выбрал этот путь вполне сознательно – если для других участие в группировке было подчас единственным способом заявить о себе, единственной формой выживания в условиях городских трущоб, то мой приятель имел простой расчет – он просто хотел подзаработать, используя всю эту ситуацию. Сидеть в тюрьме он, конечно, не собирался, умирать молодым – тем более; но в конечном счете все так и случилось – его расстреляли, вместе с женой, в московских разборках 1994 года.
С группировками разобралось, в сущности, само время – бандитская война 90-х просто выкосила их ряды, а те, кто не погиб от пуль, ушли из жизни или от наркотиков, или от алкоголя, или от банального туберкулеза, который они прихватили с собой из тюрем. Конечно, нашлись и те, кто сменил ватники 80-х на костюмы от Версаче – заработали большие деньги, купили депутатские кресла, пристроились к власти. Отмыли не только деньги, но и свое прошлое – сейчас в Казани даже улицы в их честь называют!
Но повезло не многим – основная часть не заработала ничего, и сейчас этих, по сути, немощных стариков кидают в тюрьмы за старые грехи 90-х. Создается ощущение, что государство им просто мстит за десятилетия беспомощности, когда криминальные банды контролировали этот брошенный город…
В 1989 году я столкнулся с «казанским феноменом» в последний раз (если не считать моего странного, довольно регулярного, телефонного общения с Хайдером, легендарным лидером «Жилплощадки», в середине 90-х) – в пивбаре «Раки» хозяйничала братва с «Калуги», а я, не зная того, зашел с одногруппником на пару кружек пива. Они подошли и, пьяно улыбаясь, отпили из наших кружек. Я схватил одного за грудки: «Вы, что, охренели что ли?!» И вдруг, из-за угла выбегает человек десять – друг успел ретироваться по лестнице, а мне уже пришлось прыгать через ограждение открытой веранды. Они встали надо мной и начали кидать в меня, как в мишень, одну пивную кружку за другой – я только слышал, как вокруг взрывается стекло. Но ни одна кружка не попала мне в голову! Я понял после этого – в этом городе больше ничего плохого со мной не случится!
И надо же – через несколько дней загораем с братом на пляже «Издательство». Подбегает девчонка вся в слезах, говорит, пьяные гопники загнали ее подругу в воду и не отпускают. Попытались собрать мужиков по пляжу – одни сказали: «Это не наше дело», а других не отпустили заботливые жены. Пришлось идти вдвоем, я по дороге поднял кирпич: брат только покачал головой – не надо. А что мы могли против толпы?..
Но все разрешилось невероятным образом – брат подошел к перегретой братве и спросил: «Кто у вас главный?» Потом что-то шепнул тому на ухо, а через минуту мы уже несли замерзшую девчонку на берег. Оказалось, что он ему сказал следующее: «Ее подруга в милицию побежала – хочется вам всем сидеть за групповое изнасилование?..»