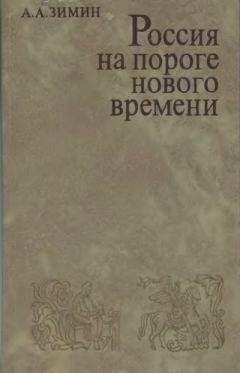Сергей Романовский - От каждого – по таланту, каждому – по судьбе
«Правда выше России», – сказал Ф. Достоевский. И каждый деятель русской культуры своею жизнью доказал справедливость этой простой формулы.
Главная «правда» Л. Толстого – его «уход», В. Маяковского и А. Фадеева – пуля, М. Цветаевой – петля *. И даже у тех, кто прожил внешне вполне благополучную жизнь, была своя «правда», своя судьба. Более приближенные к нам поколения – это советские писатели. Их судьбы как бы обобщают три возможных варианта контактов с властью: изначальная лояльность (А. Блок, В. Маяковский, Ю. Тынянов, О. Форш и др.), капитуляция перед силой (М. Горький, А. Толстой, Ю. Олеша и многие, многие другие) **, непримиримая оппозиция (В. Короленко, А. Солженицын). Для поэта приемлема любая из этих судеб. Главное, чтобы она была. А. Ахматова как-то заметила об одном пишущем: «…какой же он поэт – без судьбы»? И была права.
Мысль эта преследовала А. Ахматову долгие годы. В одной из своих записных книжек она заметила: «У каждого поэта своя трагедия. Иначе он не поэт». В связи со своей «Поэмой без героя» А. Ахматова написала (для себя): поэма эта «огромная траурная, мрачная, как туча, – симфония о судьбе поколения и лучших его представителей, т.е. вернее, обо всем, что нас постигло. А постигло нас разное: Стравинский, Шаляпин, Павлова – слава, Нижинский – безумие, Маяков[ский], Есен[ин], Цвет[аева] – самоубийство, Мейерхольд, Гумилев, Пильняк – казнь, Зощенко и Мандельштам – смерть от голода на почве безумия и т.д. и т.д. (Блок, Хлебни- ков…)».
В судьбе каждого можно отметить и извивы весьма прихотливого свойства. Вот лишь три штриха.
… Б. Пильняк в начале 20-х годов написал «Повесть непогашенной луны», своеобразную аллюзию на таинственную смерть М.В. Фрунзе. Напечатали ее в 1926 г. В ней – прозрачный намек на причастность к этой трагедии И.В. Сталина. Подобную проникновенность вождь не прощал никому. В 1937 г. Б. Пильняка арестовали. Все его бумаги: книги, рукописи, письма к нему А. Платонова, М. Булгакова, А. Ахматовой, С. Есенина и др. – были сожжены тут же во дворе его переделкинского дома. Костер горел в течение двух суток.
… Н. Погодин принадлежал к числу весьма благополучных, маститых и обласканных властью драматургов. Его пьесы более 30 лет были в репертуаре большинства драматических театров страны. Ничего слаще советской власти для него не существовало. Но в начале 60-х его угораздило съездить с делегацией писателей в США. Вернувшись же домой Н. Погодин ушел в глубочайший запой, лечиться не стал (он был застарелым язвенником) и в 1962 г. умер.
А. Найман вспоминал, что когда судили И. Бродского, а затем отправили его в ссылку, А. Ахматова сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». А на вопрос о поэтической судьбе О. Мандельштама, «не заслонена ли она гражданской, общей для миллионов, ответила: ”идеаль- ная”».
А. Ахматова в главном безусловно права: свои судьбы великие делают сами, но власти зачастую им помогают.
В период с 1917 по 1922 г., т.е. за первую большевистскую пятилетку, из России, как из зачумленного дома, удрало около 50 % интеллигенции. Уже первый массовый исход интеллигенции из страны привел не просто к резкому понижению культурного потенциала новой России, он вызвал растерянность и смятение в душах оставшихся, ведь бóльшая их часть не подалась в эмиграцию не потому, что разделяла идеи новой власти, а просто оказалась тяжела на подъем, оправдывая свою домоседливость иллюзиями ее скорого падения.
Оставшихся в советской России судьба ждала тяжкая. Кого бы из героев нашей книги мы ни взяли – это трагедия художника, это сломленная, покореженная душа, это мучительные попытки самоизнасилования творчества, приводившие либо в петлю, либо в ГУЛАГ; подстраиваться «под большевиков» было бессмысленно – они в этом не нуждались. Любому из писателей, вероятно, был знаком страх М. Цветаевой, которая более всего, даже больше голодной смерти, боялась «сделаться свиньей».
Для большевистского режима потеря таких всемирно известных имен, как Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. Фокин, И. Репин, С. Рахманинов, В. Набоков и еще многих и многих, вовсе не утрата весомой доли русской культуры, им на нее поначалу было ровным счетом плевать; они это воспринимали только как покушение на авторитет и привлекательность их «нового порядка». Устраивая из России концентрационный лагерь, они, вероятно, думали, что каждый придет в этот лагерь добровольно и «по-своему» (инженер, агроном, лесовод), а со стороны их режим и вовсе не будет восприниматься как лагерь, а скорее, как некий отстойник для людей будущего.
Поэтому когда коммунисты поняли, что их режим устоял, они всеми силами пытались сделать его привлекательным и старались заманить к себе тех, кто поспешил эмигрировать. И многие клюнули на посулы и выгоды. Вернулись А. Толстой, С. Прокофьев, А. Куприн, да и М. Горький вполне подпадает под эту категорию.
Когда стали обрабатывать И. Репина (он по-прежнему жил в Куоккала, но то была территория уже отделившейся от России Финляндии), он ответил, как умел: «Покуда Питер зовется Ленинградом, я не хочу ничего общего с этим городом… Никогда не поеду я в вашу гнусную Совдепию, будь она проклята…».
В годы нэпа, когда, казалось бы, атмосфера в советской России стала менее удушливой и даже более сотни тысяч эмигрантов рискнули вернуться на родину, большевики отреагировали на все это по-своему: они решили сразу дать понять вернувшейся, да и оставшейся интеллигенции, что нэп это лишь временное экономическое отступление от их доктрины. Они этой самой «новой политикой» как бы дали возможность предприимчивым людям спасти советский режим от неминуемого банкротства, но она вовсе не означает никаких идеологических отступлений, никаких идейных послаблений.
Пусть, мол, недалекие нэпманы набивают себе карманы (недолго им жировать), пусть писатели печатают свои опусы (их ГПУ еще успеет оценить по достоинству), но интеллигенция не должна забывать своего места «прослойки»…
Все это грустные реалии нашего недавнего прошлого и все они лишь разные способы оплаты одного счета – противодействия стадной мысли.
* * * * *
Пришло время немного порассуждать (хоть и не хочется) на темы достаточно общие – о советской интеллигенции прежде всего.
Для начала зададим вопрос, не такой уж, кстати, и риторический. Что же случилось с православными? Как они могли позволить большевикам так надругаться над страной, над верой, наконец? Да ничего и не случилось. Многие русские мыслители уже давно предупреждали, что упование на глубинную религиозность русского народа – зряшное, его религиозность на самом деле крайне поверхностная в отличие от глубинных звериных инстинктов. Если большевики посулят народу «грабь награбленное» и позволят им всласть поиздеваться над «хозяевáми», то он, «не почесавшись», как заметила З. Гиппиус, сменит нательный крест на партийный билет.
И еще. Один из парадоксов пролетарской революции, не всеми еще замеченный, состоит в том, что большевизму первой покорилась интеллигенция. Почему так? Если не «умничать», не подводить под позицию русской интеллигенции надуманные и как бы «оправдывающие» ее резоны, а посмотреть на сложившуюся в годы гражданской войны ситуацию трезво, то станет ясно: оставшаяся в России интеллигенция, и прежде всего творческая, была обречена на сотрудничество с советской властью, ей, как говорится, просто деться было некуда. В противном случае ее бы безжалостно раздавили.
В одном из писем Б. Пастернаку М. Цветаева выразилась без обиняков: «Борис, не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней, сплошь пенснейной».
Что из себя представляла русская интеллигенция, какими качествами она была наделена, что позволяло отличить интеллигента от просто человека образованного, как осуществилась мутация русской интеллигенции в интеллигенцию советскую и в чем выразилось коренное (неустранимое) свойство этого биолого-социального вида от предшествующего, – все это детальнейшим образом описано в предыдущей книге автора «Нетерпение мысли». Останавливаться поэтому на всех этих вопросах мы не будем. Сделаем лишь самые необходимые дополнения.
Не будем, кстати, забывать справедливого замечания И. Бродского, что если «поэт говорит о Каине или Авеле, то история – всегда версия Каина». В частности, это означает тот непреложный факт, что миф об интеллигенции создала она сама. Она сама себя наделила надлежащими эпитетами и сверхположительными качествами. Одним словом, русская интеллигенция сделала всё возможное, чтобы ее воспринимали как некий светящийся ореол над косматой и нечёсаной головой плебса.
В дореволюционные годы интеллигенция активно противостояла власти. Выражаясь современным языком, была в постоянной оппозиции к режиму. Никто этому не противился. Никто за это не сажал и не расстреливал. Когда же пришла революция, которую русская интеллигенция вынашивала, как беременность, то совершенно нежданно для интеллигенции во весь рост встал амбал с перекошенной от ненависти физиономией, презрительно отпихнул от себя очкастых хлюпиков и приступил к тому, к чему звало его горящее от злобы нутро, – стал грабить, жечь, убивать. Социально же озабоченная интеллигенция, которая и повела разбуженного от многолетней сонной одури люмпена на погром, приступила к своему главному занятию: бульдожьей схватке за власть и непрерывным склокам вокруг тактики, т.е., разделившись на партии «по интересам», интеллигенция начала драку за правоту именно «своей формулы» (Е. Трубецкой).