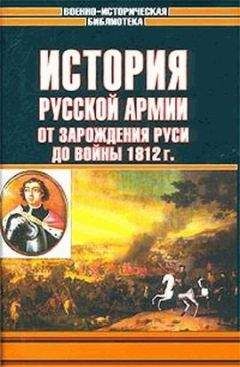Фритц Петерс - Детство с Гурджиевым
Задания, даваемые студентам, неизменно касались действительного функционирования школы: садоводство, приготовление пищи, домашнее хозяйство, уход за животными, дойка, приготовление масла - и эти задания почти всегда выполнялись группами. Как я узнал позже, групповая работа считалась особенно важной: различные личности, работая вместе, производили субъективно человеческие конфликты; человеческие конфликты производили трение; трение обнаруживало особенности, наблюдая которые можно было обнаружить "себя". Одной из многих целей школы было "увидеть себя так, как вас видят другие": увидеть себя как бы на расстоянии; быть способным оценить себя объективно; но, сначала, просто увидеть. Это упражнение, которое должно было действительно выполняться все время, во время любой физической работы, называлось "самонаблюдение" или "противопоставление я ему" - "Я" - существо (возможность) сознания, "оно" - тело, инструмент.
Вначале, до того, как я понял что-нибудь из этих теорий или упражнений, моей задачей и, в известном смысле, моим миром, было подрезание травы на моих газонах - как я стал называть их, - что стало значительно более жизненным, чем я мог ожидать.
Через день после моего "свидания" с ним мистер Гурджиев уехал в Париж. Нам дали понять, что это обычно для него - проводить два дня в неделю в Париже, как правило в сопровождении его секретаря мадам Гартман, а иногда и других. На этот раз, что было необычно, он поехал один.
Как я помню, еще до полудня в понедельник - мистер Гурджиев уехал в воскресенье вечером - до детей в школе дошел слух, что с ним произошла автомобильная катастрофа. Сначала мы услышали, что он убит, затем - что он серьезно ранен и не ожидается, что он будет жить. Официальное объявление было сделано кем-то из властей в понедельник вечером. Он не умер, но был серьезно ранен и вскоре должен был умереть в госпитале.
Трудно описать воздействие такого объявления. Само существование "Института" всецело зависело от присутствия Гурджиева. Именно он назначал работу каждому индивидуально - и до того момента он лично наблюдал каждую деталь работы школы. Теперь неминуемая возможность его смерти привела все к остановке. Только благодаря инициативе нескольких старших студентов, большинство из которых пришли с ним из России, мы продолжали питаться регулярно.
В то время, как я не знал, что должно случиться лично со мной, была одна вещь, которая оставалась живой в моем уме, - это то, что он сказал косить газоны "что бы ни случилось". Для меня было облегчением иметь конкретное дело, определенную работу, которую он мне дал. У меня также в первый раз появилось чувство, что он был, возможно, необычным человеком. Он сказал "что бы ни случилось", и с ним случилось несчастье. Его предписание стало от этого намного сильнее. Я был уверен, что он знал заранее, что должно было случиться "нечто", хотя и не обязательно автомобильная катастрофа.
Я был не единственным, кто чувствовал, что этот несчастный случай был, в определенном смысле, предопределен. Тот факт, что он уехал в Париж один (я сказал, что он сделал так в первый раз), был достаточным доказательством для большинства студентов. Моей реакцией, в любом случае, было то, что стало совершенно необходимым косить траву; я был убежден, что его жизнь, по крайней мере отчасти, могла зависеть от моей преданности заданию, которое он мне дал.
Эти мои чувства приняли особую важность, когда, несколько дней спустя, мистера Гурджиева привезли назад в Приэре в его комнату, которая выходила на "мои" газоны, и нам сказали, что он был в доме и держался живым на кислороде. Доктора приходили и уходили поочередно; резервуары кислорода приносились и уносились; спокойная атмосфера спустилась на место - мы все были как бы вовлечены в постоянную, тихую молитву о нем.
Примерно через день после его возвращения мне сказали - вероятно мадам Гартман, - что шум косилки надо прекратить. Решение, которое я был вынужден сделать тогда, было единственно важным для меня. Как я ни уважал мадам Гартман, я не мог забыть силу, с которой дал ему обещание делать свою работу. Мы стояли на краю газона, прямо под окнами его комнаты, когда я должен ответить ей. Я не раздумывал очень долго, насколько я помню, и решительно отказался. Тогда мне сказали, что его жизнь может быть действительно зависит от моего решения, и я еще раз отказался. Меня очень удивило, что мне не запретили категорически продолжать работать и даже не удерживали насильно. Единственным объяснением, которое я мог найти этому, это то, что его власть над учениками была настолько сильной, что никто не хотел брать ответственность, целиком запретив мне выполнять его задание. Во всяком случае, меня не удерживали; мне было просто запрещено резать траву. Я продолжал ее резать.
Этот отказ от подчинения любой власти, меньшей, чем высшая, был жизненно важен и абсолютно серьезен, и, я думаю, единственным, что поддержало меня в этом, было мое сознательное убеждение, что шум косилки не убьет его; также, но не столь ясно и логично, я чувствовал в то время, что его жизнь могла как-то необъяснимо зависеть от исполнения мною задания. Эти причины, однако, не могли защитить от чувств других студентов (там было их примерно сто пятьдесят человек, и большинство из них взрослые), которые были убеждены, что шум, который я продолжал производить каждый день, мог быть смертелен.
Конфликт продолжался несколько недель, и каждый день мне становилось все труднее начинать. Я помню, как я скрежетал зубами и преодолевал свой собственный страх, что я делал каждое утро. Моя решимость попеременно то укреплялась, то ослаблялась отношением других студентов. Я был изгнан, отстранен от всякой другой деятельности; никто не хотел сидеть со мной за одним столом во время еды - если я подходил к столу, где сидели другие, они выходили из-за него, когда я садился, и я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь разговаривал бы со мной или улыбался бы мне в течение этих недель, за исключением немногих наиболее влиятельных старших, которые, время от времени, продолжали убеждать меня остановиться.
3.
В середине лета 1924 года моя жизнь была сосредоточена на траве. К тому времени я мог скосить мои четыре газона целиком за четыре дня. Я делал и другие вещи: стал "мальчиком при кухне", "сторожем", у нескольких ворот дома, который мы называли "швейцарской" - но все это не было важным, я плохо помню что-нибудь другое, кроме звука косящей машины.
Мой кошмар неожиданно пришел к концу. Однажды рано утром, когда я толкал косилку вверх к фасаду замка, я посмотрел на окна Гурджиева. Я всегда делал это, как бы надеясь на какой-нибудь удивительный знак. В это самое утро я наконец увидел его. Он стоял у открытого окна и смотрел на меня сверху. Я остановился и, пристально посмотрев на него, наполнился облегчением. Долгое время, казалось, он не делал ничего. Затем очень медленно он поднес правую руку к губам и сделал жест, который, как я позже узнал, был очень характерен для него: своим большим и указательным пальцем он, так сказать, разделил свои усы от середины, а затем его рука опустилась в сторону, и он улыбнулся. Жест сделал его настоящим - без него я мог бы подумать, что фигура, стоявшая там, просто галлюцинация или плод моего воображения.
Чувство облегчения было таким сильным, что я разразился слезами, схватив палку обеими руками. Я продолжал смотреть на него сквозь слезы до тех пор, пока он медленно не отошел от окна. А затем я снова начал косить. То, что было ужасным шумом этой машины, теперь стало радостным для меня. Я толкал косилку вперед и назад, назад и вперед со всей своей силой.
Я решил подождать до полудня, чтобы сообщить о своем триумфе, но ко времени, когда я пошел на второй завтрак, я понял, что не имею никакого доказательства для такого объявления и, что теперь кажется удивительной мудростью, не сказал ничего, хотя был не в состоянии вместить мое счастье.
Вечером всем стало известно, что мистер Гурджиев был вне опасности, и атмосфера за обедом была полна благодарности и благодарения. Мое участие в его выздоровлении - я был убежден, что я единственный был ответственен в наибольшей части за все, что случилось с ним - затерялось во всеобщей радости. Все, что случилось, это то, что враждебность, направленная непосредственно на меня, исчезла так же внезапно, как и появилась. Если бы не тот факт, что мне действительно запретили производить всякий шум вблизи его окон, я бы мог подумать, что все существовало только в моем уме. Недостаток какого-нибудь торжества, какого-нибудь признания развеялся.
Инцидент, однако, не был полностью исчерпан даже тогда. Мистер Гурджиев показался, тепло одетым и медленно ступая, через несколько дней. Он подошел, чтобы сесть за небольшой столик, где я впервые беседовал с ним. Я, как обычно, с трудом ходил взад и вперед с моей косилкой. Он сидел там, по-видимому, осматривая все вокруг, до тех пор, пока я не закончил газон, который косил в тот день. Это был четвертый - благодаря быстроте его выздоровления, я сократил время покоса до трех дней. Когда я толкал косилку перед собой, направляя ее в сарай, где она хранилась, он посмотрел на меня и жестом подозвал к себе.