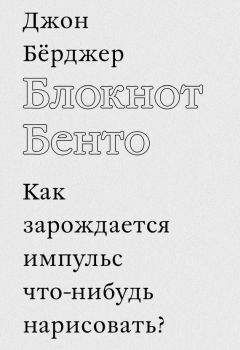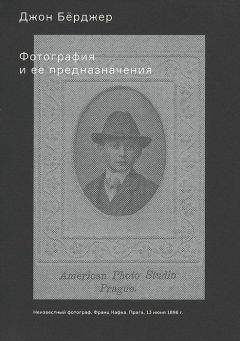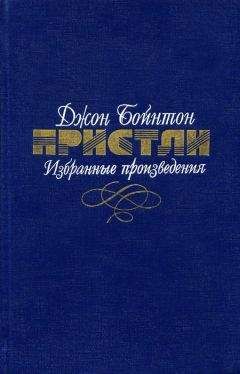Джон Берджер - Два эссе
В Женеве с семнадцатилетним Борхесом произошел случай, оставивший глубокий след в его жизни. Он долго молчал об этой истории, лишь спустя много лет посвятил в нее одного или двух друзей. Его отец решил, что сыну давно пора потерять девственность и, соответственно, устроил ему свидание с проституткой. Спальня на третьем этаже. День в конце весны. Неподалеку оттуда, где жила семья. Возможно, на пляс дю Бург-де-Фур, возможно, на рю дю Женераль-Дюфур. Борхес мог перепутать эти названия. Я бы поставил на рю дю Женераль-Дюфур — как-никак, архивная улица.
Лицом к лицу с проституткой семнадцатилетний Борхес оказался парализован робостью, стыдом и подозрением, что его отец — клиент этой самой женщины. На протяжении всей жизни собственное тело причиняло ему страдания. Он раздевался только в стихах, которые одновременно были его одеждами.
В тот день на рю дю Женераль-Дюфур женщина, заметив мучения юноши, накинула на белые плечи пеньюар и, слегка ссутулившись, направилась к двери.
Сядьте, мягко сказала она. А я вам что-нибудь принесу.
Принесенное было нечто из найденного ею в одном из архивов.
Спустя много лет, когда Борхес стал директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе, его воображение превратилось в неутомимого собирателя отложенных в сторону предметов, порванных предательских записок, утерянных фрагментов. Его великое поэтическое наследие — своего рода каталог экспонатов подобной коллекции: воспоминание некоего мужчины о женщине, оставившей его тридцать лет назад, связка ключей, колода карт, засохшая фиалка, смятая между страницами книги, зеркальное отражение буквы на промокательной бумаге, упавший том, скрытый из виду другими томами, симметричная роза у мальчика в калейдоскопе, тёрнеровские тона, когда в узком зале галереи погашен свет, ногти на руках, атласы, усы с седеющими кончиками, весла Аргуса…
Сядьте, а я вам что-нибудь принесу.
Прошлым летом, пока Буш со своей армией и нефтяные корпорации со своими советниками громили Ирак, у меня в Женеве состоялось рандеву с дочерью Катей. Я рассказал Кате о встрече с матерью в Лиссабоне. Пока моя мать была жива, они с Катей понимали друг друга, ибо обладали чем-то общим, глубоким, таким, что не нуждалось в обсуждении. Обе соглашались с тем, что в поисках какого-либо смысла жизни бесполезно заглядывать туда, куда смотреть указано. Смысл можно найти лишь в секретах.
Выслушав рассказ о том, что произошло в Лиссабоне, Катя предложила: «Ты говоришь о почитании; начни с Борхеса. Почему бы и нет? Ты его цитируешь, мы его обсуждаем, всё собираемся посетить кладбище, а ты там так ни разу и не был; пошли вместе!»
Она работала в Grand Théâtre de Genève[1]; туда я за ней и приехал. Стоило мне выключить мотор и поставить ноги на землю, как жара стала удушающей. Я стянул перчатки. Машин почти не было. Все обитатели центра города в разгар лета уезжают. Немногочисленные пешеходы, в основном пожилые, передвигались в безопасном медленном ритме, будто сомнамбулы. Они предпочитали находиться на улице, а не у себя в квартирах, ведь такая жара угнетает еще сильнее, когда ты один. Они бродили, они садились, они обмахивались, они лизали мороженое либо ели абрикосы. (Подобного урожая абрикосов не было уже десять лет.)
Я снял шлем и запихнул перчатки туда.
Мотоциклисты даже в самые жаркие летние дни надевают легкие кожаные перчатки — на то есть особая причина. Формально перчатки нужны для защиты в случае падения и для того, чтобы руки не соприкасались с липкой резиной руля. Однако если вдуматься, они прикрывают руки от холодного воздушного потока, который, хотя и весьма приятен в жару, притупляет чувствительность восприятия. Летние перчатки носят, чтобы получать удовольствие от точности при езде.
Я подошел к служебному входу и спросил Катю. Вахтерша пила из жестянки охлажденный чай (со вкусом персика). Театр был закрыт на месяц, остались только основные сотрудники.
Сядьте, мягко произнесла вахтерша, а я ее поищу.
Катина работа заключалась в составлении учебных материалов по опере и балету для школьников — в том числе учеников колледжа Кальвина. Она сбежала вниз по лестнице, одетая в набивное летнее платье, угольно-черное с белым. Борхес увидел бы лишь размытое серое пятно.
Ты давно ждешь?
Ну что ты.
Хочешь посмотреть на сцену? Можно влезть на самый верх, очень высоко, оттуда весь пустой театр целиком видно.
В пустых театрах есть что-то такое…
Да, они — полные!
Мы направились вверх по металлической лестнице, напоминавшей пожарную. Над нашими головами двое или трое рабочих сцены настраивали осветительный механизм. Она помахала им.
Они меня позвали, а я сказала, что хочу еще тебя привести.
Рабочие, смеясь, помахали ей в ответ.
Потом, когда мы добрались до их уровня, один из них сказал Кате: так ты, я вижу, высоты не боишься!
И я подумал о том, сколько раз в жизни мне приходилось принимать участие в этом ритуале: мужчины демонстрируют женщинам, что их работа связана с определенным риском, не очень серьезным. (Серьезный риск они предпочитают не демонстрировать.) Им хочется произвести впечатление, хочется, чтобы ими восхищались. Это — предлог, для того чтобы поддержать женщину под руку, показать ей, куда ступить или как нагнуться. Есть здесь и удовольствие другого рода. Ритуал, о котором речь, подчеркивает разницу между женщинами и мужчинами, и эта преувеличенная разница рождает трепет надежд. Потом на какое-то время становится легче выносить рутину.
Высоко мы?
Метров сто, солнышко.
Откуда-то издалека, из репетиционной, до нас донеслись трели сопрано — кто-то распевался. В стороне от батареи приглушенных прожекторов было темно. Виднелась только открытая дверь — маленькая, не больше чердачного лаза — далеко внизу, возле кулис. Из нее струился солнечный свет. Ее, очевидно, открыли, чтобы впустить немного воздуха. Рабочие были одеты в шорты с майками и обливались потом.
Сопрано начала арию.
Беллини, «I Puritani», объявил младший из рабочих. Восемьдесят представлений в прошлом сезоне!
О rendermi la speme
О lasciatemi morir…
Позволь мне надеяться
Или позволь умереть.
Сцена была огромной, как сухой док, и мы с Катей прошлись по одному из мостиков. Параллельно мостику висели, спускаясь прямо к подмосткам, раскрашенные декорации сезонного репертуара.
Луч прожектора пересек, как по дорожке, подмостки; голос почему-то остановился посередине арии; тогда-то мы и увидели, как в открытую дверь — там, вдали, внизу — влетела птица.
Несколько минут она кружила в темном пространстве. Потом, потеряв ориентацию, уселась на провод. Стало видно, что это скворец. Птица устремилась к прожекторам — похоже, приняла их за выходы на свет, — забыв или не в силах найти дорогу назад, к двери, через которую влетела.
Птица пролетела между висящими задниками — «Море», «Гора», «Испанская таверна», «Лес в Германии», «Королевский дворец», «Крестьянская свадьба», — крича на лету: чи-и-и-р-р! чи-и-и-р-р! Крики становились все более и более пронзительными, по мере того как она все яснее понимала, что попала в западню.
Попавшей в западню птице надо, чтобы вокруг стемнело и освещенным остался только путь на волю. Этого не произошло, и тогда скворец принялся биться о стены, занавесы и холсты. Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р!
В оперных театрах существует старое поверье: если убить на сцене птицу, в здании начнется пожар.
Репетировавшая певица, в брюках и футболке, вышла на сцену. Наверное, кто-то сказал ей про птицу.
Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! — запела в подражание птице Катя. Певица взглянула наверх и поняла, в чем дело. Она тоже начала подражать крику скворца. Птица откликнулась. Певица настроилась на нужную тональность, и один крик сделался почти неотличим от другого. Птица полетела к ней.
Мы с Катей заторопились вниз по металлическим ступеням. Когда мы проходили мимо рабочих, молодой сказал Кате, а я и не знал, что ты у нас примадонна!
На улице, на углу театра, куда выходила маленькая дверь, сопрано, сложив руки перед собой, выводила раз за разом, чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! Старики со своим мороженым и абрикосами собрались вокруг, нисколько не удивившись. В такую жару, в опустевшем городе может произойти все что угодно.
Давай сначала выпьем эспрессо, сказала Катя, а потом пойдем на кладбище.
Она нашла место на самом солнцепеке. Я сел в тени. Вдали послышались аплодисменты. Наверное, птица вылетела наружу. Вот так история, заметила она, рассказать — никто не поверит.
На кладбище были широкие лужайки и высокие деревья. По свежескошенной траве с привередливым видом вышагивал дрозд. Мы спросили дорогу у садовника, оказавшегося боснийцем.