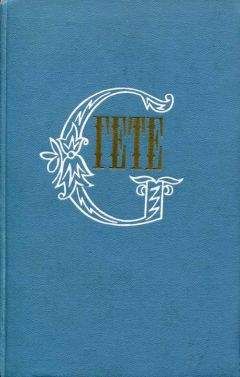Эвальд Ильенков - Количество.
Атомистика, направленная своим острием против спиритуалистических концепций внешнего мира, будто внешний (телесный) мир так или иначе состоит из бестелесных, непротяженных точек, из линий, лишенных толщины, и поверхностей, лишенных глубины, и оформляется бестелесными же числами, попадала в естественный конфликт с официальной греческой математикой [ср. Аристотель: «Постулируя неделимые тела, они (Демокрит и Левкипп) вынуждены впасть в противоречие с математикой»]. Греч. геометров смущало, что при допущении мельчайшей, даже мысленно неделимой частицы оказывается невозможным разделить точно пополам отрезок, состоящий из нечетного числа неделимых. Две половины такого отрезка никогда не могут быть «равными», «конгруэнтными», а будут только казаться таковыми в силу грубости наших чувств, слабой разрешающей силы глаза. Но тем самым «равенство», «конгруэнтность» и им подобные понятия, на которых геометрия основывала свои доказательства, оказывались, строго рассуждая, лишь приблизительными, лишь огрубленными образами. Отстоять свою «абсолютность» геометрия в этих условиях могла, только провозгласив суверенность геометрических образов и построений от внешнего мира, причем не только от чувственно воспринимаемого многообразия эмпирии, но и от бытия в философском смысле, от физической реальности в смысле Демокрита. Интересы геометрии в этом пункте прямо смыкались с интересами философских учений, враждебных атомистике, Официальная математика поэтому шла в общем и целом в фарватере идеалистических философских систем и получила от них ярлык точнейшей из наук и квалификацию своих аксиом как вечных и неизменных.
Школа Платона попыталась усвоить идеи атомистики, отвергая в то же время материализм, представление о телесно-физической природе неделимых. Вместо неделимого тела она приняла неделимую, минимальную поверхность и далее неделимый бестелесный контур — треугольник, который, подобно идеям, оформляет бесформенную материю. Тем самым прерывность, оформленность, ограниченность чувственно воспринимаемых тел приписывались действию бестелесных математических идей, а чистая геометрия получала полную независимость от материи, от физических (качественных) характеристик. Материя, представленная в этой концепции как нечто киселеобразное, как «апейрон», внутри себя абсолютно однородна и не может быть представлена как определенное количество, как величина, число или фигура. Это — чистая возможность количественных различений, полагаемых в нее извне, со стороны царства «идей»; опосредующим же звеном между идеями и материей выступают как раз «математические предметы», непосредственно воплощающиеся в виде чувственно воспринимаемых контуров, очертаний и фигур определенной величины и числа, короче говоря — в виде многообразных тел в пространстве. Тем же путем была лишена предметного смысла и «единица», основа счета и измерения. Числовые пропорции и отношения вновь, как у пифагорейцев, начинают представляться абсолютно самостоятельными сущностями, т. е. особого рода вещами, которые существуют несмотря на то, что у них нет тела.
Аристотель попытался впервые зафиксировать и рассмотреть количество как особую категорию, не совпадающую с числом, величиной, фигурой и другими специально математическими понятиями. «Количеством — называется то, что может быть разделено на составные части, каждая из которых, будет ли их две или несколько, является чем-то одним, данным налицо. То или другое количество есть множество, если его можно счесть, это — величина, если его можно измерить»[1]. «Между количествами одни раздельны, другие — непрерывны, и одни состоят из находящихся в них частей, имеющих определенное положение друг к другу, а другие из частей, не имеющих такого положения. Раздельными являются, например, число и речь, непрерывными — линия, поверхность, тело; а кроме того еще время и пространство»[2]. Уже формальная (словесная) дефиниция весьма характерна, она обнимает не только «разнородные», но и прямо взаимоисключающие, противоположные друг другу предметы рассмотрения; количество выступает как высший род, содержащий внутри себя противоположности, как единство этих противоположностей. Рассмотрение этих диалектических трудностей и попытки найти им решение осуществляются Аристотелем не в общей форме, а в его обычной манере двигаться «от частного к частному». Сила аристотелевского гения вообще обнаруживается не в дефинициях и итоговых выводах, а именно в способе рассмотрения трудностей, в поиске, в постоянных поворотах мысли, точки зрения, постановки вопроса и т. д. В качестве примеров непрерывных количеств фигурируют линия, поверхность, тело, «а кроме того еще время и пространство». Все эти примеры просто ставятся рядом, как равноценные. Но анализ показывает, что линия и поверхность ни в коем случае не суть самостоятельно существующие вещи, а только определенные характеристики тела. Кроме того, Аристотель категорически отвергает и самостоятельное существование пространства, т. е. представление о нем в виде пустоты, и толкует пространство также в качестве определенной характеристики того же «тела». Таким образом, все непрерывные количества по существу сводятся к одному образу — к образу пространственно определенного тела. Время тоже рассматривается им как «число движения», т. е. тоже как определение тела, поскольку то движется, перемещается в пространстве. Непрерывное количество тем самым толкуется уже не как у элейцев, т. е. не как неразличенная сплошность, в которой отсутствуют какие бы то ни было границы. Это непрерывное количество само внутри себя различено, разграничено, т. е. состоит из частей. Но части непрерывного количество соприкасаются друг с другом, т. е. имеют общую (одну на двоих) границу и между ними нет промежутка, заполненного инородным телом или инородной «сущностью». Раздельные же (прерывные) количества характеризуются тем, что их части не имеют общей границы. В качестве примеров раздельных количеств фигурируют число и речь, единицы и слоги. Иными словами, пока речь идет о реальной, вне человека сущей, действительности, Аристотель допускает в ней только непрерывные количества, т. е. такие количества, составные части которых всегда имеют общую границу. В итоге вопрос об отношении прерывных и непрерывных количеств у Аристотеля фактически сводится к вопросу об отношении числа и речи к реальному чувственно воспринимаемому миру или знаков к вещам, этими знаками обозначаемым. Число, как постоянно повторяет Аристотель в ходе своей полемики с пифагорейско-платоновским идеализмом, ни в коем случае нельзя рассматривать как особую вещь, имеющую отдельное, обособленное от чувственных (телесных) вещей существование[3].
Комментируя рассуждения Аристотеля, Ленин особо выделяет эту мысль «Метафизики»: «Наивное выражение “трудностей” насчет “философии математики” (говоря по современному): книга 13, глава 2, § 23:
…“Далее, тело есть субстанция, ибо оно обладает известной законченностью. Но как могли бы быть субстанциями линии? Они не могли бы таковыми быть ни в смысле формы и образа, подобно, например, душе, ни в смысле материи, подобно телу: ибо очевидно, что ничто не может состоять из линий, или из плоскостей, или из точек…”.
Книга 13, глава 3 разрешает эти трудности превосходно, отчетливо, ясно, материалистически (математика и другие науки абстрагируют одну из сторон тела, явления, жизни). Но автор не выдерживает последовательно этой точки зрения»[4].
«Количеством в собственном смысле называется только то, что указано выше; все же остальное называется так лишь привходящим образом: в самом деле, имея в виду те величины, которые были указаны, мы называем количествами и остальные предметы; так, например, белое называется большим, потому что велика поверхность, и дело — продолжительным, потому что оно совершается (происходит) долгое время, и точно также движение — значительным: всё это называется количеством не само по себе. В самом деле, если человек указывает, сколь продолжительно данное деяние, он определит это посредством времени, называя такое деяние одногодичным или как-нибудь подобным образом; также указывая, что белое есть некоторое количество, он определит его чрез посредство поверхности: как велика поверхность, такую величину припишешь ты и белому. Поэтому только указанное выше называется количеством в собственном смысле и само по себе; из всего же остального ничто не называется так само по себе, а если и называется, то — привходящим образом»[5]. Количество здесь весьма явственно толкуется как пространственная, временная, или пространственно-временная определенность того предмета, о котором идет речь. Но для Аристотеля совершенно ясно, что эта (количественная) характеристика никогда не исчерпывает полной действительности предмета. Например, исследователь чисел рассматривает человека не поскольку он человек, а поскольку он — единое и неделимое. С другой стороны, геометр не рассматривает его ни поскольку он человек, ни поскольку он неделим, а поскольку это — тело[6]. Но человек является «единым и неделимым» именно постольку, поскольку он — человек. По той же причине он есть вполне определенное геометрически тело, а не просто тело. Иными словами, Аристотель отмечает здесь, что человек в его «полной действительности» есть всегда нечто большее, чем его изображение в арифметике (в числе) и в геометрии (в виде пространственно-определенной фигуры). Здесь же ясно видна и принципиальная разница между Аристотелем и атомистикой. Аристотель в качестве примера «единого и неделимого» приводит здесь человека, точнее — индивидуума, понимая это в том смысле, что индивидуум есть предел деления рода «человек». При делении человека пополам получаются не две половинки «человека», а две половинки трупа. Это значит, что каждый род действительности имеет свою «меру», т. е. свою «естественную» единицу. «И мера всегда должна быть дана как что-то одно для всех предметов [данной группы], например, если дело идет о лошадях, то мера — лошадь, и если о людях, то мера — человек. А если мы имеем человека, лошадь и бога, то [мера] здесь, пожалуй — живое существо, и [то или другое] их число будет числом живых существ. Если же мы имеем человека, белое и идущее, здесь всего менее можно говорить об их числе, потому что все эти определения принадлежат тому же самому предмету и одному по числу, но все же число таких определений будет числом родов, или здесь надо взять какое-нибудь другое подобное обозначение»[7]. Число тут явно понимается как мера, повторенная много раз, т. е. как математическое выражение качества предмета. Аристотель, как отмечает Ленин, не выдерживает последовательно материалистической точки зрения на математические предметы. Это связано с тем, что, кроме тела, в его философии важнейшую роль играет активная форма как самостоятельная сущность, и с тем, что он постоянно путается в диалектических трудностях, касающихся отношений общего и единичного, чувственно воспринимаемого и умопостигаемого. Но сама эта путаница не плод недомыслия, а выражение того факта, что проблема количества на самом деле ведет к другим общефилософским проблемам и решается, в конце концов, только в общефилософском контексте, и ни в коем случае не внутри математики.