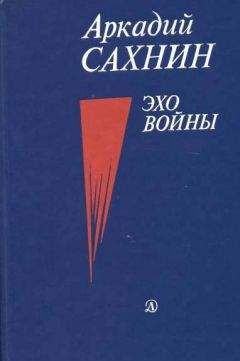Алексей Сахнин - Болотная революция
Я помню, как в сентябре 2011 г., кажется, в 20-х числах, мы разговаривали с Сергеем Удальцовым. Только что на съезде «Единой России» в торжественной обстановке объявили о том, что кандидатом от власти на будущих президентских выборах станет Путин Владимир Владимирович. В интернете закипели бурные баталии, но улицах было тихо. Очень тихо.
Настроение у нас обоих было угнетенным. На уровне рационального анализа мы понимали, что конструкция «управляемой демократии», выстроенная путинскими политтехнологами, поизносилась и вот-вот должна дать трещину. Что противоречия в обществе нарастают и рано или поздно должны выйти на поверхность, реализовавшись в виде острого социально-политического кризиса[1]. Но при всем понимании того, что «стабильность» на исходе, эмоционально в это как-то не очень верилось. Слишком тихо было вокруг. Все предыдущие вспышки протестов были подавлены. Активистские сообщества переживали заметный упадок. И, когда мы говорили о приближающемся взрыве, мы сами себя чувствовали начетчиками, из раза в раз произносящими ритуальные фразы о скорой революции. Забавно, что, когда это ощущение достигло своего предела, до большой протестной волны оставалось всего два месяца.
Я помню, как мы сидели на лавочке в Новопушкинском сквере, курили, и Удальцов меланхолично перечислял наши неудачи. Он вспоминал, что в 2007 г., накануне предыдущих думских выборов, когда политическая борьба проходила гораздо острее, даже не участвовавшие в выборах активистские группы испытывали некоторый подъем в связи с общим ростом интереса и внимания общества к политике. Но сейчас, в 2011, все было слишком уныло. «Левый фронт», созданию и развитию которого мы отдали несколько лет, переживал если не упадок, то застой. Никакой очевидной перспективы в обозримые сроки не просматривалось («если вдруг не случится революция»- добавляли мы каждый раз). Мы, разумеется, собирались по-прежнему инициировать и проводить кампании социального протеста, участвовать в акциях против ущемления демократических прав и свобод и т. д. Но ни одна из них не казалась в тот момент потенциально прорывной. А общий кризис, который вроде бы назревает… Черт его знает, разразится ли он вообще? Или, может, рассосется сам собой?
Нас тогда — точно так же, как и теперь, — очень беспокоила угроза того, что накопившийся потенциал протеста будет спущен через безопасный для власти погромный клапан. В декабре 2010 г. довольно крупные выступления под националистическими лозунгами произошли на Манежной площади. Многим в тот момент (как и сейчас, после Бирюлево) казалось, что массовый взрыв неизбежно приобретет коричневый полуфашистский окрас. Практика показала затем, что во время подъема национализм отступает. Но тогда этого опыта у нас еще не было.
В тот раз, несмотря на хорошую погоду, разговор у нас получался невеселый. К тому же мы прощались. Мне предстояла двухмесячная командировка в Сибирь.
4 декабря, в день выборов, я прочел в новостях, что мои товарищи устроили небольшую акцию на Красной площади. Мне тогда показалось, что этим все и закончится.
Но через пару дней я вернулся в Москву. Мир уже перевернулся с ног на голову. В метро пассажиры говорили только о политике. Незнакомые люди подходили, заговорщицки подмигивая, и пожимали руки — «вы ведь тоже из оппозиции?». Энергия массового протеста буквально волнами перекатывалась по Москве и пульсировала на улицах.
Даже для тех, кто оставался в Москве, — а события, которым посвящен этот текст, проходили преимущественно в столице, — оказались к этому совершенно не готовы. А издалека вообще было трудно даже вообразить масштабы перемен.
Массовое протестное движение 2011–2012 гг. не было, конечно, революцией. Оно почти не вылилось за пределы столиц и нескольких крупных мегаполисов (о немногих важных исключениях речь пойдет отдельно). Оно не вовлекло в себя большинство народа. Оно не поставило на повестку дня многие важнейшие вопросы национальной жизни. У него вообще была масса слабых мест и недостатков. Но на фоне унылой российской политики, в которой полтора десятилетия почти безраздельно властвовала элита, это движение, безусловно, было эпохальным сдвигом. Впервые за долгие годы активисты гражданских движений и рядовые граждане выступили в качестве сколько-нибудь организованной силы и превратились в ключевой фактор внутренней эволюции страны.
Так случилось, что протестное движение с самого начала было связано с Болотной площадью в Москве. Именно там прошли три важнейшие акции в его истории — митинги и демонстрации 10 декабря 2011, 4 февраля и 6 мая 2012 г. Поэтому в прессе и исторической памяти оно останется как «Болотное движение». Противники называли его «болотом». Многие участники (и я в их числе) считали, что остров между Москвой-рекой и Обводным каналом, на котором расположена Болотная площадь, стал символом внутренней слабости, ограниченности этого движения, его будущей неудачи. Но история сложилась так, как сложилась. Сегодня всем сторонникам перемен в России стоит внимательно изучать историю болотного движения, потому что в ней содержатся многие ответы на наши вопросы о будущем. В том числе и о том, какую стратегию должны избирать активисты гражданских движений, сторонники оппозиции и просто неравнодушные граждане в следующий раз, когда судьба страны будет решаться на улицах и площадях. А в том, что такой момент настанет, я лично нисколько не сомневаюсь.
* * *Когда-то, в 2007 г., выступая на форуме своих сторонников, Владимир Путин неодобрительно высказался о склонности сотрудников НКО «шакалить у иностранных посольств». Подразумевалось, что именно в этих учреждениях активисты гражданского общества и их лидеры пропитываются антироссийским духом и получают инструкции по развалу России. Однако путинская критика «шакалящих» отразилась не только на экологах и правозащитниках, традиционно получавших гранты на свою работу у международных организаций. В числе пострадавших оказались и многие исследователи.
По мере реализации «реформ» система отечественной науки все сильнее погружалась в кризис. Ограниченные ресурсы традиционных научных учреждений, академических и университетских организаций были недостаточны для обеспечения реализации многих исследовательских программ. Поэтому часть исследователей пыталась выживать, получая на свои изыскания гранты от разных иностранных фондов. Зачастую формой организации подобных проектов служили некоммерческие организации. Негласный запрет «шакалить» очень многих такой возможности лишил.
Чтобы предотвратить или, по крайней мере, снизить недовольство со стороны пострадавших, российские власти создали несколько программ для финансирования исследовательских проектов, реализуемых в третьем секторе. В первую очередь это касалось социологии и других гуманитарных дисциплин. Ряд лояльных Кремлю организаций превратились в дистрибьюторов бюджетных денег, выделяемых ученым и активистам на их исследования. Не берусь судить, насколько эффективной оказалась эта система. Но в той части, в которой я с нею сталкивался, могу сказать, что коррупция и цензура не были в ее рамках тотальными.
Разумеется, была коррупционная составляющая. Некоторые исследовательские заявки были заранее обречены на успех, вне зависимости от их качества, поскольку их подавали близкие к властям организации. С другой стороны, часть денег распределялась между реальными независимыми исследовательскими коллективами. Так же и с цензурой. Если среди авторов заявки были какие-то уж слишком известные своей оппозиционностью люди, с громким именем (но без протекции наверху), их проект могли отклонить, не глядя на его эпистемологическую ценность. С другой стороны, были примеры, когда исследователи с оппозиционными взглядами получали грант на предложенный ими проект.
Так или иначе, однажды я оказался среди счастливчиков, получивших грант на социологическое исследование активистских сообществ. Случилось это осенью 2011 г. Собственно, исходная задача была сравнительно скромной. Мы планировали собрать несколько десятков интервью у активистов разных движений, чтобы определить основные параметры доминирующих типов организационной культуры, распространенных в активистских сообществах. Нас интересовала также механика воспроизводства этой культуры, роль личного примера авторитетных в активистской среде деятелей, историческая память разных секторов гражданского общества и т. п. По итогам анализа «полевого материала» предполагалось написать некий академический текст и на его основе сделать несколько журнальных публикаций.
Пока мы с моими коллегами получили этот грант, пока были урегулированы все формальности, перечислены деньги и подошло время брать интервью, на улицах Москвы уже во всю бушевала «болотная революция» (в которой я и мои товарищи по Левому фронту принимали самое живое участие в качестве активистов). Эти события наложили очень большой отпечаток на собранный нами материал. Многие гипотезы, из которых мы исходили при подготовке заявки, оказались абсолютно не актуальными. И полевой материал зачастую диктовал совершенно непредвиденную проблематику.