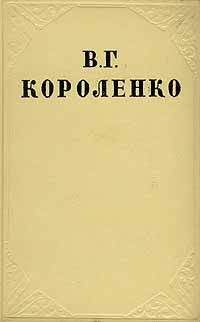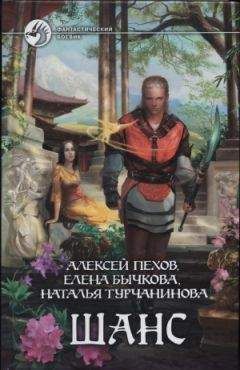Сергей Гандлевский - Эссе, статьи, рецензии
Чуть ли не средневековая регламентированность поведения причиняла ему, по его же признанию, много неудобств. Но ничего сделать с собой он не мог. Вкусовое одиночество, как я сейчас понимаю, было для него обычным состоянием. Вкусовая взаимность – праздничным исключением.
Случайный, но наглядный пример. Сопровскому нравилось, как Сергей Юрский читает стихи. Однажды в Ленинграде на мраморной лестнице какого-то клуба Саша столкнулся лицом к лицу с любимым актером, который в толпе поклонников шел к выходу после поэтического спектакля. К вящему изумлению окружающих, Сопровский очень серьезно отвесил Юрскому совершенно допотопный поклон. Ни на секунду не замешкавшись, Юрский отвечал ему тем же. Эту встречу двух благовоспитанных артистов Сопровский вспоминал потом с одобрением: “Сразу видно порядочного человека!”
Одна из главных примет современного культурного быта (вероятно, не только культурного) заимствована из быта лагерного. Называется “понт”. В этой науке Сопровский “сердцем милый был невежда”. Сделать много и остаться незамеченным – это больше походило на Сопровского. “Про батарею Тушина было забыто”, – говорил он в таких случаях. Дело даже не в пресловутой скромности, а в неумении вписаться в советскую обрядность. Он разом увядал и терялся от натужной непринужденности нынешних раутов, где как раз и пробивает час понта.
Я с трудом уговорил его не уходить вместе со мной после им же организованного первого в стране вечера памяти Александра Галича. “Погоди, – убеждал я его, – будет банкет”. Как я узнал позже, Саше все-таки бокал-другой налили, правда не в первую очередь и за чьими-то спинами.
Чужим, без надрыва и с трезвой горечью, называл он себя в стихах не раз. Он и был им, но угрюмым не стал. Кто знал его, помнит знаменитый сопровский смех, от которого дребезжали стекла в комнате и озирались прохожие на улице. Помянуть его бодрость духа необходимо. Проще всего сказать, что источником бодрости было мужество, – и это будет правильно. Но все-таки ближе к истине, на мой взгляд, назвать причиной этой бодрости чувство благодарности, как мало кому присущее Сопровскому. Он был самого высокого мнения о бытии, был признательным свидетелем мира, ничего от него не требовал и поэтому радовался каждой малости, будь то хорошая погода, свободная десятка или увлекательный разговор.
Он непредвзято, потому что творчески, относился к жизни. Сентенций Сопровский на дух не переносил, но однажды довольно строго сказал дочери: “Никогда не повторяй чужих мнений”.
Поэтому так трудно уживался он с интеллигенцией – этим глашатаем общих мест. На манерные восклицания: “Нет власти не от Бога” – он отвечал: “Не от Бога – значит, не власть”. Когда какой-нибудь интеллигент, дорожа “лица необщим выраженьем”, говорил, что не верит в перестройку, Сопровский отвечал, что “перестройка не Господь, чтобы в нее верить, ею надо пользоваться”. Он был возвышеннее интеллигента, когда речь шла о возвышенном, ибо имел сильное воображение, и деловитей его, когда речь шла о делах этого мира. В его жизни были хорошие и плохие времена, сам он бывал лучше или хуже, но чем он никогда не грешил – это смешением понятий, оправдывающим прозябание.
Его принципиальная непредвзятость во взаимоотношениях с людьми проявлялась в простодушии почти неправдоподобном. У нас с ним шло двадцатилетнее препирательство: кто лучше разбирается в людях. В молодости мы с ним подолгу гуляли вечерами по городу. Когда у Саши кончалось курево – а курил Сопровский “Беломор”, – он начинал спрашивать у всех прохожих без разбора. А я трезво предсказывал, кто даст ему закурить, а кто – нет. Обычно мои прогнозы сбывались, но иногда самый, на мой взгляд, неподходящий человек ссужал его “Беломором” чуть ли не фабрики Урицкого… Лучше в людях разбирался все-таки я. Но ближе к истине был Сопровский. Потому что я исходил из соображений правила, а он верил в исключение из правил. А именно на исключение из правил все мы уповаем.
Говорят, что успех портит. Это верно, когда речь идет о человеке с неразвитым чувством собственного достоинства. Такой человек невысокого мнения о себе и поэтому кроток, пока безвестен. А сегодня ему улыбается удача – и руки начинают дрожать и голова кружиться, как от ворованного. А завтра он свыкается со своей удачливостью и пробует хамить.
С Сопровским происходило прямо противоположное: он знал себе цену, нервничал, когда его недооценивали, и становился весел и спокоен, точно ему вернули его законное, когда заслуги его признавались.
Я все время хожу вокруг да около тайны этой жизни, но мне придется описать еще один круг, который, может быть, даст представление о главном в Александре Сопровском. Речь пойдет о пользе.
Один начальник географической партии с одобрением рассказал мне о шофере, который от него уволился, несмотря на хорошие заработки. “Воздухом вы занимаетесь”, – объяснил свой уход шофер. Экспедиция, кажется, считала перекрестки в населенных пунктах Закавказья. Так вот, Сопровский занимался главным образом воздухом. Пользу его жизни трудно потрогать руками.
Он мог отложить все дела и часами просвещать по телефону малознакомого рабочего, если находил в нем проблески искренней встревоженной мысли. О чем они там говорили – навсегда осталось между ними. Своему новому другу, молодому поэту, написавшему полтора десятка стихотворений, вместе со стихотворениями он возвращал толстую тетрадь со своими соображениями об этих стихах и вообще о жизни. Где эта тетрадь? Где многочисленные, устные и письменные, талантливые, добротные и доброжелательные размышления, которыми он отзывался на творчество своих товарищей? Где уйма блистательных высказываний и недюжинных умопостроений, которые мы, его друзья, простодушно присвоили, и освоили, и приняли к сведению навсегда? Теоретическое наследие Сопровского фольклорно по преимуществу. Мы – тот рабочий, тот поэт, другие люди, я сам – и есть свидетели и живые доказательства существования Сопровского-мыслителя. От горечи я, конечно, преувеличиваю. Есть хорошие статьи, а работа об Иове, если память мне не изменяет, – просто шедевр. Но этих статей пять или десять, а его независимая талантливая мысль билась двадцать с лишним лет.
Последние два года жизни Сопровский работал над исследованием о Марксе. Это должна была быть остросюжетная повесть, где главные герои – авантюрная, циничная личность, броская, наглая мысль. Сопровский возлагал большие надежды на свое исследование. Во-первых, у него были идейные счеты с основоположниками теории социализма; во-вторых, он думал поправить свои денежные дела, рассчитывал на приглашение западных университетов на лекторскую работу по этой теме. Я очень верил в успех его начинания. План книги у него был, материалов он собрал много, благо стал доступен библиотечный спецхран. При работоспособности Сопровского ему требовалось два-три месяца, чтобы довести все до ума. Именно этого он и не сделал. На вопрос жены, почему же он не заканчивает работу, Сопровский ответил: “Мне казалось, что мы с ним похожи по темпераменту, а чем дальше я разбирался в его жизни, тем он мне становился противнее: неудавшийся поэт, разуверившийся в Боге…” Два года труда снова обернулись воздухом… Но ведь я говорю не о вертопрахе, не о “певчем дрозде”, а о самом, наверное, глубоком человеке, с которым свела меня жизнь!
Я не был безоговорочным поклонником его стихотворного дарования (он моего, кстати, тоже), и пусть о стихах Сопровского скажут те, кто чувствует их сильней, чем я. Но в правоту поэзии вообще он верил всегда безоговорочно. “Защитник веры” – сказано было о Честертоне. Сопровского можно назвать “защитником поэзии”.
Сопровский мог увлекать и с радостью учил. Но темп его учительства был так высок, а ход мысли так непредсказуем, что ученики не поспевали за ним. Он оставался в одиночестве. Скажем, был он славянофилом, и собирался какой-то небольшой круг. Но через год-два он обманывал ожидания своих последователей, потому что позволял себе роскошь думать, а они торопились отвоевывать место под солнцем. “Глупец один не изменяется”, – цитировал он Пушкина, объясняя свои измены. Он был в стремительном одиноком развитии и, увлеченный, небрежно помечал его этапы.
Еще одна притча, связанная с Сопровским. Мы путешествовали пешком и попутками по Литве. Я предложил ему присесть на высоком берегу Немана – уж больно хороши были окрестности. “Брось, – осклабился он. – Лучший вид открывается, когда скачешь с донесением”.
И польза, и бережливость, и забота были в его жизни. Но обычно у людей это называется бесполезностью, расточительностью и беззаботностью. Он был похож на человека, который все собирает и собирает силы для далекого похода, а похода все нет и нет. Или его нет вовсе, или это такой далекий поход, который начался у него утром 23 декабря 1990 года.
Наконец-то, мне кажется, кружным путем я достиг той области, откуда понятней становятся бодрость духа и человеческое и культурное бескорыстие Сопровского. Упорство, с которым он занимался воздухом и как-то невзначай создал атмосферу, и ею уже больше двух десятилетий дышит целый круг людей.