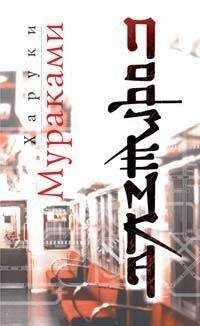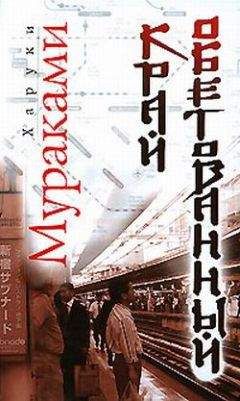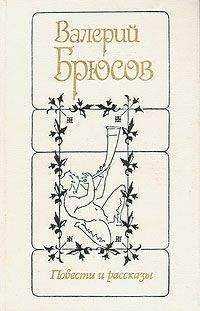Лев Троцкий - О Ленине
Не помню, в то же ли утро или на другой день я совершил с Владимиром Ильичом большую прогулку по Лондону. Он показывал мне Вестминстер (снаружи) и еще какие-то примечательные здания. Не помню, как он сказал, но оттенок был такой: это ц них знаменитый Вестминстер. "У них" означало, конечно, не у англичан, а у врагов. Этот оттенок, нисколько не подчеркнутый, глубоко органический, выражающийся больше в тембре голоса, был у Ленина всегда, когда он говорил о каких-либо ценностях культуры или новых достижениях, об устройстве Британского музея, о богатстве информации "Times-а" или много лет позже- о немецкой артиллерии или французской авиации: умеют или имеют, сделали или достигли, — но какие враги! Незримая тень эксплуататорского класса как бы ложилась в его глазах на всю человеческую культуру, и эту тень он ощущал всегда с такой же несомненностью, как дневной свет. Насколько могу припомнить, я проявил в тот раз к лондонской архитектуре минимальное внимание. Переброшенный сразу из Верхоленска за границу, где я вообще был в первый раз и воспринимал Вену, Париж и Лондон лишь очень суммарно, и мне было еще не до "деталей", вроде Вестминстерского замка. Да и Владимир Ильич не за тем, разумеется, вызвал меня на эту большую прогулку. Цель его была в том, чтобы познакомиться и проэкзаменовать. И экзамен был действительно "по всему курсу". На вопросы его я рассказывал о составе ленской ссылки и о внутренних в ней группировках. Главной линией водораздела было тогда отношение к активной политической борьбе, к централистической организации и к террору.
— Ну, а теоретических разногласий, в связи с бернштейнианством, не было? — спросил В. И. Я рассказал, как мы читали книгу Бернштейна и ответ Каутского в московской тюрьме и затем в ссылке. Никто из марксистов в нашей среде не поднимал голоса за Бернштейна. Считалось как бы само собой разумеющимся, что Каутский прав. Но связи между теоретической борьбой, развертывавшейся тогда в международном масштабе, и нашими организационно-политическими спорами мы не проводили никакой и даже над ней не задумывались, по крайней мере до появления на Лене первых номеров "Искры" и книжки Ленина "Что делать?". Рассказывал еще я, что мы с большим интересом читали первые философские книжки Богданова. Помню очень твердо смысл замечания В. И.: и ему книжка об историческом взгляде на природу показалась очень ценной, но вот Плеханов не одобряет, говорит, что это не материализм. В. И. тогда на этот вопрос своего взгляда еще не имел и только передавал взгляд Плеханова с уважением к его философскому авторитету, но и с неудомением. Меня плехановская оценка тогда также очень удивила. Спрашивал В. И. и об экономике. Я рассказал, как мы в московской пересыльной коллективно штудировали его книгу "Развитие капитализма в России", а в ссылке работали над "Капиталом", но остановились на втором томе. Я упомянул об огромном количестве статистических данных, разработанных в "Развитии капитализма".
— Мы в московской пересылке не раз с удивлением говорили об этой колоссальной работе.
— Так ведь это же делалось не сразу, — ответил Ленин.
Ему, видимо, было приятно, что молодые товарищи с вниманием относились к его важнейшей экономической работе.
Заговорили о махаевщине, о том, какое произвела она впечатление на ссылку, многие ли поддались. Я рассказал, что первая гектографированная тетрадь Махайского, доставленная нам "сверху" по Лене, произвела на большинство из нас сильное впечатление резкой критикой социал-демократического оппортунизма и в этом смысле совпадала с тем ходом наших мыслей, который вызывался полемикой между Каутским и Бернштейном. Вторая тетрадь, где Махайский "срывает маску" с марксовых формул воспроизводства, усматривая в них теоретическое оправдание эксплуатации пролетариата интеллигенцией, вызвала в нас теоретическое возмущение. Наконец, полученная нами позже третья тетрадь, с положительной программой, в которой пережитки экономизма сочетались с зародышами синдикализма, произвела впечатление полной несостоятельности.
Насчет моей дальнейшей работы разговор был в этот раз, разумеется, лишь самым общим. Я хотел, прежде всего, ознакомиться с вышедшей литературой, а затем предполагал нелегально вернуться в Россию. Решено было, что я должен сперва "осмотреться".
Для жительства я был отведен Надеждой Константиновной за несколько кварталов в дом, где проживали Засулич, Мартов и Блюменфельд, заведовавший типографией "Искры". Там нашлась свободная комната и для меня. Квартира эта, по обычному английскому типу, располагалась не горизонтально, а вертикально: в нижней комнате жила хозяйка, а затем друг над другом жильцы. Была еще одна свободная общая комната, которую Плеханов окрестил после своего первого посещения вертепом. В комнате этой, не без вины Веры Ивановны Засулич, но и не без содействия Мартова, царил большой беспорядок. Тут пили кофе, сходились для разговоров, курили и пр. Отсюда и название.
Так начался короткий лондонский период моей жизни. Я принялся с жадностью поглощать вышедшие номера "Искры" и книжки "Зари". К этому же времени относится начало моего сотрудничества в "Искре".
К 200-летнему юбилею Шлиссельбургской крепости я написал заметку, кажется первую мою работу для "Искры". Кончалась заметка гомеровскими словами или, вернее, словами гомеровского переводчика Гнедича насчет "необорных рук", которые революция наложит на царизм (по дороге из Сибири я начитался в вагоне "Илиады"). Ленину заметка понравилась. Но насчет "необорных рук" он впал в законное сомнение и выразил мне его с добродушной усмешкой. "Да это гомеровский стих", — оправдывался я, но охотно согласился, что классическая цитата необязательна. Заметку можно найти в "Искре", но без "необорных рук".
Тогда же я выступил с первыми докладами в Уайт-Чепеле, где сразился со "стариком" Чайковским (он и тогда уже был стариком) и с анархистом Черкезовым, тоже немолодым. В результате я был искренне удивлен тем, что именитые седобородые эмигранты способны нести такую явную околесицу… Связью с Уайт-Чепелем служил лондонский "старожил" Алексеев, марксист-эмигрант, близкий к редакции "Искры". Он посвящал меня в английскую жизнь и вообще был для меня источником всякого познания. Помню, как я после обстоятельного разговора с Алексеевым по пути в Уайт-Чепел и обратно передал Владимиру Ильичу два мнения Алексеева насчет смены государственного режима в России и насчет последней книжки Каутского. У нас смена произойдет не постепенно, говорил Алексеев, а крайне резко, ввиду рижидности самодержавия. Слово "рижидность" (жестокость, твердость, несгибаемость) я твердо запомнил. "Что ж, это он, пожалуй, прав", — сказал Ленин, выслушав рассказ. Второе суждение Алексеева касалось книжки Каутского:
"На другой день после социальной революции". Я знал, что Ленин книжкой очень интересуется, что он, по его собственным словам, читал ее дважды и читает в третий раз; кажется, им же был проредактирован русский перевод. Я только что прилежно проштудировал книжку по рекомендации Владимира Ильича. Между тем Алексеев находил книжку Каутского оппортунистической. "Ду-рак", — неожиданно сказал Ленин и сердито надул губы, что с ним бывало в случае недовольства. Сам Алексеев относился к Ленину с величайшим уважением: "Я считаю, что он для революции важнее Плеханова". Ленину я об этом, конечно, не говорил, но Мартову сказал. Тот ничего не ответил.
Редакция "Искры" и "Зари" состояла, как известно, из шести лиц: трех "стариков" — Плеханова, Засулич и Аксельрода и трех молодых — Ленина, Мартова и Потресова. Плеханов и Аксельрод проживали в Швейцарии. Засулич — в Лондоне, с молодыми. Потресов в это время находился где-то на континенте. Такая разбросанность представляла технические неудобства, но Ленин нисколько не тяготился ими, даже наоборот. Перед моей поездкой на континент он, посвящая меня осторожно во внутренние дела редакции, говорил о том, что Плеханов настаивает на переводе всей редакции в Швейцарию, но что он, Ленин, против перевода, так как это затруднит работу. Тут впервые я понял, но лишь чуть-чуть, что пребывание редакции в Лондоне вызывается соображениями не только полицейского характера, но и организационно-персональными. Ленин хотел в текущей организационно-политической работе максимальной независимости от стариков, и прежде всего от Плеханова, с которым у него уже были острые конфликты, особенно при выработке проекта программы партии. Посредниками в таких случаях выступали Засулич и Мартов: Засулич — в качестве секунданта от Плеханова и Мартов — в таком же качестве от Ленина. Оба посредника были очень примирительно настроены и, кроме того, очень дружны между собою. Об острых столкновениях между Лениным и Плехановым по вопросу о теоретической части программы я узнавал лишь постепенно. Помню, Владимир Ильич спрашивал меня, как я нахожу программу, тогда только что опубликованную (кажется, в № 25 "Искры"). Я, однако, воспринял программу слишком оптовым порядком, чтобы ответить на тот внутренний вопрос, который интересовал Ленина. Разногласия шли по линии большей жестокости и категоричности в характеристике основных тенденций капитализма, концентрации производства, распада промежуточных слоев, классовой дифференциации и пр. — на стороне Ленина и большей условности и осторожности в этих вопросах — на стороне Плеханова. Программа, как известно, изобилует словами "более или менее": это от Плеханова. Насколько вспоминаю, по рассказам Мартова и Засулич, первоначальный набросок Ленина, противопоставленный наброску Плеханова, встретил со стороны последнего очень резкую оценку в высокомерно-насмешливом тоне, столь отличавшем в таких случаях Георгия Валентиновича. Но Ленина этим нельзя было, конечно, ни обескуражить, ни испугать. Борьба приняла очень драматический характер. Вера Ивановна, по ее собственному рассказу, говорила Ленину: "Жорж (Плеханов) — борзая: потреплет, потреплет и бросит, а вы — бульдог: у вас мертвая хватка". Очень хорошо помню эту фразу, как и заключительное замечание Засулич: "Ему (Ленину), это очень понравилось. "Мертвая хватка?" — переспросил он с удовольствием". И Вера Ивановна добродушно передразнила интонацию вопроса.