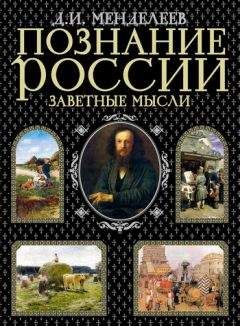Никита Кричевский - Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики
Здесь мы сталкиваемся с самым магическим из всех известных передергиванием мысли великого ученого. Речь о «невидимой руке рынка», якобы делающей лишним государственное присутствие в экономике. Скажу сразу: в «Богатстве народов» дословно ничего подобного не говорится.
В исходном варианте тезис Смита выглядит так: «Предпочитая оказывать поддержку отечественному производству, а не иностранному, он (смитсианский «каждый отдельный человек». – Н.К.) имеет в виду лишь свой собственный интерес, и, осуществляя это производство таким образом, чтобы его продукт обладал максимальной стоимостью, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это»[4].
О сущности рынка – в следующих главах. А сейчас зададимся вопросом: где тут хотя бы намек на отрицание роли государства в экономике (да еще и во времена британской абсолютной монархии)? Да за одно подобное высказывание, не говоря уже о целой книге, 53-летнему университетскому профессору Смиту, больше всего в жизни дорожившему отношениями с матерью, светила каторга, а не всемирная слава!
Речь, как видно из цитаты, велась всего лишь о поддержке отечественного производства (промышленная революция на туманном Альбионе тогда шла полным ходом), что трансформировалась в достижение интересов всего общества. Однако высказывание Смита извратили настолько, что государство из создателя и охранителя общественных норм превратилось в изгоя, в ущербного «ночного сторожа» с усеченными функциями охраны границ, соблюдения законности и правопорядка, а также содержания специфических учреждений и сооружений (например, инфраструктуры или тюрем), необходимых обществу[5]. Четвертой неявной функцией государства, которую позднее великодушно разглядел Нобелевский лауреат Милтон Фридман, является «защита «недееспособных» членов сообщества»[6].
Вот еще один красноречивый пример смысловой подмены. В главе «О прибыли на капитал» Смит пишет: «Наши купцы и владельцы мануфактур сильно жалуются на вредные результаты высокой заработной платы, повышающей цены и потому уменьшающей сбыт товаров внутри страны и за границей»[7]. Казалось бы, вот оно, теоретическое обоснование необходимости сдерживания роста оплаты труда!
Однако Смит продолжает свою мысль так: «Но они ничего не говорят о вредных последствиях высоких прибылей. Они хранят молчание относительно губительных результатов своих собственных барышей, жалуясь лишь на то, что выгодно для других людей». И тут же добавляет: «Когда хозяева столковываются в целях сокращения заработной платы своих рабочих, они обыкновенно заключают частное соглашение не давать им больше определенной суммы под угрозой известного штрафа. Но если рабочие заключат между собою противоположное соглашение – под угрозой штрафа не соглашаться на определенную заработную плату – закон карает их весьма сурово; а ведь если он относился беспристрастно, он должен был таким же образом поступать и по отношению к хозяевам»[8].
Чего в этом отрывке больше: обоснования необходимости государственного регулирования роста оплаты труда, аргументации насущной потребности ограничивать прибыль собственников, разъяснения важности и актуальности профсоюзного движения или указаний на нормативные недоработки?
Как бы ни было, но все последующие годы маятник экономической науки перемещался от патернализма к индивидуализму и обратно, а кризисы тем временем случались с пугающей регулярностью. Пожалуй, все, чего за столетия смогли достичь теоретики, в нескольких фразах выразил классик современного немецкого ордолиберализма Вальтер Ойкен: «Мало или много должно быть государственной деятельности – вопрос не в этом. Речь идет не о количественной, а о качественной проблеме. Насколько нетерпимо стихийное формирование хозяйственного порядка в век промышленности, современной техники, больших городов и людских масс, настолько же очевидна неспособность государства к ведению хозяйственного процесса»[9].
В этих словах все: и признание текущей неспособности просчитать количественные границы разнохарактерного государственного вмешательства, и продолжение дискуссии о направлениях регулирования (конкуренция не «вопреки», а «благодаря» государству), и ложная аргументация – «неспособность государства к ведению хозяйственного процесса», с блеском опровергаемая Китаем на протяжении последних 35 лет.
Более полутора веков экономисты всего мира спорят, но так и не могут прийти к единому мнению о причинах мировых кризисов, а без правильного диагноза нет верного лечения. Стоит ли удивляться, что экономическая наука никак не может выработать эффективное антикризисное противоядие? Эффективное, но не универсальное – национальные экономики столь разноплановы, что рецепты, крайне полезные в одних странах, в других могут уничтожить не только болезнь, но и пациента.
Не лыком шиты
Россия в своих нынешних ментальных воззрениях сопоставима с европейскими умонастроениями трехсотлетней давности – не зря же в нашем народе устойчиво мнение, что «экономика – не наука». Лучины в головах, а не в домах. Наслушавшись удобоваримых толкований Смита и его последователей (к которым отчасти относится и Карл Маркс)[10], мы, с одной стороны, требуем свободы предпринимательства, а с другой – настаиваем, чтобы ответственность за частные инвестиционные провалы несло государство. (Согласно исследованию фонда «Общественное мнение» и Института посткризисного мира, проведенному в марте 2013 г., 38 % россиян уверены, что потери от их фондовых вложений должно компенсировать государство, в обратном убеждены 45 % респондентов, остальные «не определились».)
Однако «сопоставима» – не значит «отстает». У нас, как уже говорилось, иное мировоззрение: в массе своей мы традиционалисты, приверженцы сильного государства. Единовластие, единоначалие, а не институты[11] – вот что для русского человека приоритет в системе общественных ценностей. Конечно, все мы разнолики, и среди нас много индивидуалистов, категорически не приемлющих исторически сложившийся в России тип взаимоотношений государства, общества и личности. Но одно дело не принимать, и совсем другое – жить и работать в собственной стране. Современная эпоха предоставляет людям массу способов для самореализации, однако для русского, россиянина, отеческое всегда было выше личного. Характер народный словами не переделаешь.
В истории российской мысли присутствуют свои экономисты-исследователи, так же как и Смит, творившие в рамках монархической системы политико-экономических координат. В 1724 г., за 50 лет до появления «Богатства народов», в России появился труд первого русского экономиста Ивана Посошкова «Книга о скудости и богатстве» (книгой в общепринятом понимании его назвать нельзя, так как издан он был много позже). В нем автор с присущим тем временам преклонением и почитанием Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Великого[12] систематизировал свои взгляды и предложения, «отчего происходит напрасная скудость и отчего умножиться может изобильное богатство».
В девяти главах книги Посошков субъективно, на основе собственного опыта, проанализировал наиболее актуальные стороны российской действительности: состояние правосудия, особенности жизни дворянства, купечества, крестьянства, развитие народных промыслов, борьбу с преступностью, положение с доходами царской казны. Всякий раз Посошков предлагал свои, часто неординарные способы устранения недостатков. Приведу несколько цитат.
О коррупции, тюремной и судебной системах: «Гостинцев у истцов и у ответчиков отнюдь принимать не надлежит, понеже мзда заслепляет и мудрому очи. Уже бо кто у кого примет подарки, то всячески ему будет способствовать, а на другого посягать, и то дело уже никогда право и здраво рассужено не будет, но всячески будет на одну сторону криво.
В прошлом 1719 году сыщик Истленьев в Устрике (село в 180 км от Новгорода. – Н.К.) у таможенного целовальника (выборное должностное лицо, при вступлении в должность клятвенно целовавшее крест. – Н.К.) взял с работы двух человек плотников за то, что у них паспортов не было, и отослал их в Новгород. И в Новгороде судья Иван Мякинин кинул их в тюрьму, и один товарищ, год просидев, умер, а другой два года сидел да едва-едва под расписку освободился. И тако многое множество без рассмотрения судейского людей Божьих погибает.
В Алексинском уезде видел я такова дворянина, именем Иван Васильев сын Золотарев, дома соседям своим страшен, яко лев, а на службе хуже козы. В Крымский поход как не мог он избежать службы, то послал вместо себя убогого дворянина, прозванием Темирязев, и дал ему лошадь да человека своего, то он его именем и был на службе, а сам он дома был и по деревням шестерней разъезжал и соседей своих разорял. И сему я вельми удивляюсь, как они так делают, знатное дело, что и в полках воеводы и полковники скупы, с них берут, да мирволят им»[13].