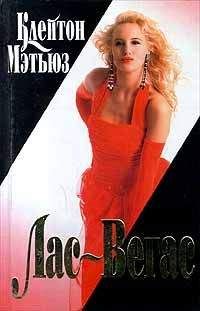Георгий Товстоногов - Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера
Средства выразительности в каждом конкретном случае избирались новые, только здесь нужные, только здесь возможные и ранее самим Товстоноговым не опробованные. Однажды высказанное суждение, будто Товстоногов «склонен к послушному повторению когда-то им самим найденных приемов», не подтверждалось. На двух московских сценах ежевечерне двадцать дней кряду шли его спектакли, и всякий раз, когда угасал свет в зале и начиналось действие, пространство сцены преображалось неузнаваемо.
Оно замыкалось в заставленном громоздкими вещами и вытянутом вдоль рампы интерьере «Энергичных людей», будто угрожая спихнуть в публику монументальные буфеты, внушительные шкафы, холодильники, телевизоры, оно распахивалось широчайшей пустынной панорамой степей и небес «Тихого Дона», зябко прижималось к земле под хмурыми тучами «Трех мешков сорной пшеницы», сияло солнечной ясностью «Ханумы», нервно трепетало тенями в щелях и просветах тонких стен, обступавших жилье в пьесе «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки», оно переливалось нежнейшими красками Клода Моне в танцующей ворожбе зонтиков и страусовых перьев огромных дамских шляп в «Дачниках», потом вдруг застывало в аскетической простоте мешковины «Истории лошади». Точно так же свободно варьировались от спектакля к спектаклю режиссерские композиции. Центробежные движения сменялись центростремительными, динамика диагональных построений — статикой фронтальных мизансцен, обдуманная элегантность, своего рода чеканка пластических форм, уступала место намеренной расхристанности, размагниченности поведения, экстатическая взвинченность массовок — их сиротливой понурости, сплоченность — разобщенности.
Структура каждого из спектаклей обладала своей собственной, только на этот случай пригодной целостностью. И хотя властная, крепкая рука постановщика чувствовалась везде и сразу же, все-таки жизненная позиция режиссера, связывавшая все эти разнообразные творения, обнаружила себя лишь тогда, когда перед зрителями прошел весь гастрольный репертуар театра.
Режиссерский дар Товстоногова глубочайше серьезен. Фантазия покорна интеллекту, темперамент обуздан логикой, изобретательность послушна волевому напору, без колебаний отвергающему любые выдумки, даже и соблазнительные, но — посторонние, уводящие от намеченной цели. Такая сосредоточенная энергия связана с пристрастием к решениям крайним, предельным, к остроте и нервной напряженности очертаний спектакля. Туда, где он предчувствует правду, Товстоногов устремляется очертя голову, безоглядно, готовый любой ценой оплатить доступ «до оснований, до корней, до сердцевины». Создатель композиций проблемных, вбирающих в себя непримиримое противоборство идей, Товстоногов испытывает характерную неприязнь к режиссерскому кокетству. Ирония часто сквозит в его искусстве, подвергая сомнению людей, их дела и слова, но она никогда не бывает скептически направлена против хода собственной мысли художника. Двусмысленность иронической театральности — не для него. Прием как таковой ему просто неинтересен. В средствах выразительности Товстоногов разборчив, даже привередлив. Смелые эксперименты и новшества его младших товарищей по профессии — Ю. Любимова, А. Эфроса, М. Захарова и других — он, конечно, учитывает, берет на заметку, но если уж использует в собственных постановках, то всегда в оригинально интерпретированном, насыщенном совсем другим смыслом, одновременно и в упроченном, и в переиначенном до неузнаваемости виде.
Когда столь ответственный и вдумчивый мастер ставит, к примеру, «Хануму» Авксентия Цагарели, беспечный, старинный, столетней давности, водевиль, его, понятно, не может прельстить резвая игра обманов и недоразумений, десятилетиями забавлявшая грузинскую публику. Над комедийным спектаклем витает записанный на пленку взволнованный и торжественный гортанный голос самого режиссера — с нескрываемым упоением Товстоногов произносит долетевшие из прошлого века любовные строфы Григола Орбелиани:
Только я глаза закрою — предо мною ты встаешь,
Только я глаза открою — над ресницами плывешь…
А на планшете сцены безмолвная пантомима, прерывая и останавливая вихрь водевильных происшествий, элегичным языком пластики говорит о том же: славит величие любви.
Всепоглощающая страсть, совершенно неведомая легкомысленной пьесе, где любовью либо торгуют, либо шутят, но только не живут, вторгается в спектакль извне, его на себя равняя, сообщая всем перипетиям новое значение, скрепляя собою затейливую вязь мизансцен. Пылкими рефренами Орбелиани поэзия с небес этого спектакля падает на улочки старого Авлабара (своего рода тифлисского Замоскворечья), и тайное ее очарование, ее ностальгический дух улавливают артисты: и Л. Макарова, пленительная и предприимчивая сваха, воркующая ведьма — Ханума, и грациозно дряхлый князь — В. Стржельчик, и вдохновенно практичный приказчик — Н. Трофимов, и восторженный недотепа Коте — Г. Богачев…
Легкокрылая «Ханума» с готовностью предлагала повод для увлекательных вариаций в духе вахтанговской праздничной театральности, но, как видим, такая перспектива Товстоногова не прельстила. Широко распространенное восприятие театра как праздника вообще не в его вкусе, забавлять зрителей он не намерен. Тут — в серьезности, с которой Товстоногов задумывает и ведет спектакль, — содержится простое объяснение явственного нежелания сворачивать на модную стезю шумного и бравурного мюзикла, к которой тоже вполне могла бы его склонить «Ханума». В том-то и дело, что обе эти возможности, которые близко лежали, Товстоногов отверг — и не только потому, что они легко предугадывались, но главным образом потому, что они уводили прочь от единственно для него важной сути. Он поступил иначе, старая комедия наполнилась в его истолковании искренним чувством, расположилась на полпути между наивной красочностью живописи Пиросмани и патетикой поэзии Орбелиани. Игрушка вдруг ожила.
Замечу кстати, что, столь важными для «Ханумы», простыми и сильными средствами звукозаписи Товстоногов пользуется очень охотно. Гомон и щебет птиц в «Дачниках», горестные частушки военных лет в «Трех мешках сорной пшеницы», конский топот, ржанье и мощный гул мчащегося табуна в «Истории лошади», раздольные старинные казачьи песни над «Тихим Доном», живой голос автора, Василия Шукшина, читающего ремарки к «Энергичным людям», — все это для Товстоногова повод и способ раздвинуть пределы сцены, связать ее подмостки с беспредельностью жизни.
К решению проблем, выдвигаемых действительностью и драмой, режиссер приближается настойчиво, медленно, кругами, подступает к ним снова и снова. Его искусство полно предчувствий и предвестий, и в паузах спектаклей постепенно накапливается электричество неизбежной грозы. Товстоногов — организатор бурь. Он сам должен исподволь создать напряжение, которое рано или поздно разрядится раскатами грома, ударами молний, и в их ослепительном свете нам откроется правда.
Монотонно, несколько раз в спектакле «Три мешка сорной пшеницы» по В. Тендрякову повторяется одна и та же, в сущности, коллизия: бездушному формализму и мертвой чиновнической тыловой хватке Божеумова (которого В. Медведев играет умышленно мягко, намеренно тускло, с угрожающе-тихой достоверностью) упрямо возражает горячечная, смелая человечность вчерашних фронтовиков Кистерева (О. Борисов) и Тулупова (Ю. Демич). Вновь и вновь сталкиваются, но никак не могут ни столковаться, ни понять друг друга форма и суть, душа и догма, правило и совесть. Веские, мрачные аргументы даны и той и другой стороне. Атмосфера накаляется до тех пор, пока режиссер не подает Олегу Борисову тайный, невидимый нам знак: пора!
В этот миг сразу меняется весь театр. Будто и не было ни тяжелых дождевых туч, нависших над сценой, ни частушек, только что звучавших над нею, ни крестьянских массовок, горестно и обреченно группировавшихся на планшете. Все куда-то исчезло, пропало. Есть одна лишь реальность: ярость актера, клокочущий темперамент, голос, который срывается на хрип, осатаневшие глаза — вся человеческая жизнь вот сейчас, сию минуту будет истрачена и сожжена разом, выгорит дотла, без остатка.
Весь многосложный механизм спектакля сконструирован ради одного момента, ибо это — момент истины.
Повесть В. Тендрякова, написанная с протокольной суховатостью, в сценическом изложении Товстоногова зазвучала трагически.
Думается, такой сдвиг — отчасти по крайней мере — предопределило предпринятое режиссером «раздвоение» образа Тулупова — персонажа, от имени которого ведется рассказ. Это «раздвоение» понадобилось Товстоногову отнюдь не для пущей театральности или «драматизации» прозы, не во имя переключения повествования в игровой план. Как раз в этом-то смысле фигура Тулупова-старшего (сегодняшнего), помещенная режиссером рядом с Тулуповым-младшим (военных лет) никакой выгоды не дает. Драме ни комментаторы, ни наблюдатели не требуются, лишние персонажи, активно в событиях не участвующие, ей только мешают.