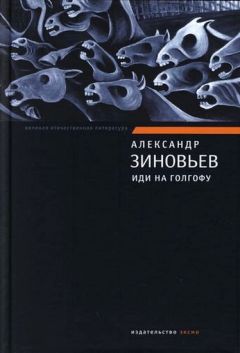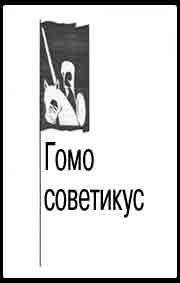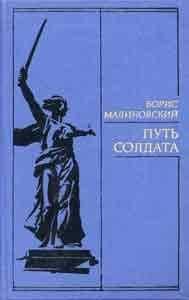Александр Зиновьев - Иди на Голгофу. Гомо советикус. Распутье. Русская трагедия
Интеллигенция и идеологенция
— Какую роль в контрреволюции сыграла интеллигенция?
— Слово «интеллигенция» неоднозначно. До революции в интеллигенцию включали писателей, ученых, инженеров, учителей, врачей и других более или менее образованных людей, занимавшихся трудом, требовавшим образования и интеллектуальных усилий. Их было сравнительно немного. В советские годы образование стало достоянием миллионов людей. Число людей, ранее относимых к интеллигенции, выросло в сотни раз. Высокообразованные люди заполонили все прочие профессии — государственные учреждения, управленческий аппарат, юридические учреждения, милицию, армию, спорт и т. д. Большое число ученых, писателей, врачей, юристов, профессоров и др. заняли такое положение в обществе, что их скорее следовало отнести к категории чиновников, чем к интеллигенции в старом смысле. Кто-то пустил в ход слово «образованщина». Оно отразило тот факт, что образование перестало быть отличительным признаком интеллигенции. Но социальный статус категории людей, интуитивно считаемой интеллигенцией, остался неопределенным. Возьмем, например, научно-исследовательский институт. Его сотрудники образуют социальную иерархию. Директор, заместители, заведующие отделами и т. д. Доктора наук, кандидаты, без степеней. Академики, членкоры. У всех высшее образование. Зачастую младшие сотрудники лучше образованы, чем начальники. А сколько людей с высшим образованием, с учеными степенями и званиями работали в партийном аппарате, в органах безопасности, в милиции, в судах, в армии и т. д.! И что — все они представители интеллигенции? Но это не социальная характеристика. Чувствуете, что тут требуется новый понятийный аппарат?
— Что вы называете интеллигенцией в социологическом смысле?
— Надо исходить не из слова и затем подыскивать, кого бы назвать этим словом, а из анализа реальной социальной структуры населения. И, выделив какую-то категорию граждан, дать ей подходящее название. В советские годы сложилась особая категория людей, в которую вошли люди с высшим и специальным средним образованием, занятые интеллектуальным и творческим трудом по профессии, — ученые, писатели, профессора, журналисты, художники, музыканты. Для них источником средств существования и жизненного успеха стали их профессиональное образование и заслуги в профессиональной работе. Многие из них заняли довольно высокое положение в обществе, многие — среднее, некоторые — высшее, многие — низшее, но с перспективой повысить свой статус и улучшить жизненный уровень. В целом эти люди имели ряд преимуществ перед другими, сравнительно обеспеченное положение, легкость и интересность работы, минимум или отсутствие риска, гарантии положения, возможности улучшений, доступ к культуре, среде общения и т. д. Важно определить социальный статус этой категории людей в совокупности, их функцию в социальной организации общества в целом.
— И какова же эта функция?
— Обработка сознания людей и снабжение их «духовной пищей». Поскольку они действовали под контролем идеологии и были ее орудием, их в совокупности можно назвать словом «идеологенция».
— Таким образом, то, что называют словом «интеллигенция», можно разделить на образованщину и идеологенцию?
— Если хотите, да. Резкой грани тут нет. Но для начала такое разделение сгодится. Оно имеет силу и теперь.
— Каково было положение идеологенции в советское время?
— Она была (и остается!) наиболее циничной, приспособленческой, трусливой и подлой частью населения. Она была лучше других образована. Она была уверена в своей профессиональной нужности и ценности. Ее менталитет был гибок, изворотлив. Она умела представить любое свое поведение в наилучшем свете и найти оправдание любой своей подлости. Она была добровольным оплотом режима. Она была не жертвой режима, а его носителем, его слугой и хозяином одновременно. Она была социально эгоистичной, думала только о себе. Ее роль была двойственной. С одной стороны, она поставляла людей в оппозицию к режиму, сочувствовала диссидентам и даже поддерживала их, была подвержена влиянию западной пропаганды. А с другой — она поддерживала анти-оппозиционные действия властей и сама активно громила диссидентов и «внутренних эмигрантов».
— Какая сторона доминировала?
— В зависимости от обстоятельств. Но постепенно первая усиливалась. В хрущевские годы стали приобретать влияние люди, выглядевшие либералами в сравнении с людьми сталинского периода. Они отличались от своих предшественников и конкурентов лучшей образованностью, «большими» способностями и инициативностью, более свободной формой поведения, идеологической терпимостью. Они вносили известное смягчение в образ жизни страны, стремление к западноевропейским формам культуры. Они стимулировали критику недостатков советского общества, сами принимали в ней участие. Вместе с тем они были вполне лояльны к советской системе, выступали от ее имени и в ее интересах. Они заботились лишь о том, как бы получше устроиться в рамках этой системы и самую систему сделать более удобной для их существования. Но при этом они стремились выглядеть так, будто они суть жертвы «режима». Не рискуя ничем и не теряя ничего, они изображали себя как бы репрессированными. Они жили, как говорится, «с кукишем в кармане». В их число вошли представители науки, литературы, музыки, журналистики, профессуры, театра, изобразительного искусства и других сфер культуры. Это известные личности, имевшие более или менее широкое и сильное влияние на умы и чувства людей. Этот слой «властителей дум» советского общества стал базой западного идейного наступления на советское общество, поставщиком людей в «пятую колонну» Запада в Советском Союзе.
— Каково отношение «либералов» и диссидентов?
— В брежневские годы «либералы» приобрели настолько сильное влияние на всю интеллигентскую среду, что первую половину брежневского правления можно было бы назвать либеральной, причем с большим основанием, чем хрущевские годы. Во вторую половину брежневского правления «либерализм» пошел на спад. Но это не означало, что «либералов» — потеснили некие «консерваторы». Это означало, что сами «либералы» в массе своей стали эволюционировать в сторону «консерватизма», исчерпав свой «либерализма» и урвав свои куски от благ общества. Они уступили инициативу диссидентам, которые открыто встали на путь антисоветизма и антикоммунизма. Но как только с высот власти была дана установка на «перестройку», реформы и переворот, «либералы» оживились и стали самой активной частью сил контрреволюции, оплотом и апологетами постсоветского строя. Характерный документ на этот счет — известное письмо видных интеллектуалов-либералов, одобривших расстрел Белого дома по приказу Ельцина. Некоторая часть «либералов» оказалась в оппозиции, но в оппозиции довольно вялой, неорганизованной, идейно хаотичной и нельзя сказать, что умной и талантливой.
Русская трагедия
Слово «трагедия», как и вся прочая терминология сферы социальных объектов, является многосмысленным и плохо обработанным в качестве научного понятия. В общеразговорном языке оно употребляется обычно для обозначения событий, в которых происходит гибель людей и их объединений. Но не любую гибель такого рода называют трагедией. Если, например, в сражении в войне погибают солдаты, слово «трагедия» тут выглядит неуместным. Чтобы оценить ту или иную гибель людей как трагедию, требуется еще указать переживание ими или какими-то другими людьми этой гибели именно как трагедии. И переживание это должно быть настолько сильным, чтобы перед ним поблекли прочие переживания.
В античном словоупотреблении слово «трагедия» имело более узкий и даже несколько смещенный сравнительно с интуитивным употреблением смысл. В частности, оно предполагало предопределенность гибели тех или иных людей. Предопределяли эту гибель некие высшие силы — боги или неопределенная судьба. Они избирали жертву трагедии, заранее выносили ей смертный приговор, мотивируя его некоей виной избранной жертвы. Трагедия в этом смысле считалась предсказуемой. Предсказывали ее оракулы, пророки и боги. А порою это было ясно самим жертвам с самого начала, и они поступали как обреченные на гибель.
Я здесь буду употреблять слово «трагедия» как социологическое понятие, осуществив экспликацию (уточнение и выявление) некоторого интуитивного его употребления. Оно будет близко к античному смыслу, но не будет совпадать с ним полностью.
Такая экспликация совершенно необходима, если мы хотим понять по существу, что произошло с нашей страной и нашим народом к концу XX века и что их ожидает в наступающем веке.
Трагедия в социологическом смысле (скажем, социальная трагедия) включает в себя следующие основные компоненты: 1) жертву; 2) судью; 3) палача. Все эти компоненты суть люди как социальные существа или объединения людей, рассматриваемые как целое, все они суть социальные субъекты. Возможно совпадение каких-то двух и даже всех трех компонентов в одном субъекте — субъект осуждает сам себя или даже наказывает сам себя. Это логически вырожденные случаи. Но и в них происходит удвоение и даже утроение одного субъекта — он выступает в различных ролях, так что все три компонента так или иначе присутствуют.