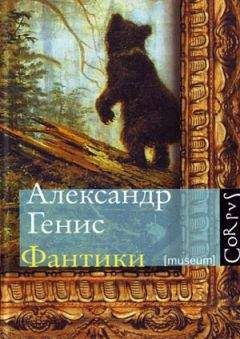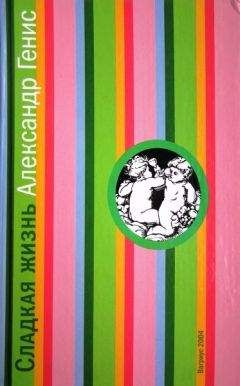Дао путника. Травелоги - Генис Александр Александрович
– Культуру, – учит Новый Свет, – нельзя украсть, но ее можно себе придумать.
– Историю, – говорит он же, – нельзя повторить, но в нее можно играть.
– Японцем, – замечу я, – можно не только родиться, но и стать, как это случилось с моим знакомым морским пехотинцем, принявшим вместе с именем Дайдо Лури пост настоятеля дзен-буддийского монастыря, расположенного всего в ста милях от Нью-Йорка.
Не исключено, что за границей Японии больше, чем у нее дома. Больше всего мы любим свое, когда не узнаем его в чужой упаковке. Это вроде как суши из воблы.
Русских в Японии мало, если не считать сахалинских рыбаков на Хоккайдо, ворвавшихся однажды в женскую баню и по ошибке там выпивших. Инцидент разбирала полиция с русским разговорником сыскной службы. Первая фраза в нем звучит так: “Разрешите вас арестовать”.
В Японии, как уже говорилось, русских мало, а те, что есть, говорят по-английски. Это программисты, ученые и девушки без определенных занятий. Вернее, с определенными, но так говорят из вежливости, потому что японцы нас все время боятся обидеть: “Вам и так не просто: Сталин, климат, то, се”.
Русские им вежливо отвечают тем же, неискусно скрывая бешенство. Больше всего наших достает мусор: шесть контейнеров, трехлетние курсы и соседи следят, звоня на работу.
– Трудно? – спросил я у соотечественницы.
– Судите сами. Макулатуру надо разобрать, банки вымыть, горящее высушить, остальное сплющить. То, что не горит и не тонет, мусором не является и выбросу не подлежит. Разве что по пятницам, в дни удаления от скверны. И это только начало. Здесь всегда влажно. Комната в шесть татами. Борщ – роскошь: свекла – сорок долларов, и не купить. Чтобы дочку в школу собрать, надо гольфы приклеить, иначе спадают, юбку линейкой отмерить, ранец очистить от запрещенного: денег, мобильника, конфет. Плюс уроки сострадания. Каждому приходится неделю побыть слепым, неделю – глухим, неделю – старым, три дня – безногим.
– А теперь, когда дочь выросла?
– Друг у нее нежнее девицы: руки бритые, ноги бритые, гладкий, как угорь.
– Совет да любовь.
– Это вряд ли. Я ему в тещи не гожусь. “Глаза, – говорит, – большие, зеленые, ноги длинные, руки длинные, страшная как смерть”.
Я так и не сумел, что со мной бывает исключительно редко, полюбить Токио. А все потому, как объяснил мне живущий здесь аспирант Саша, что ездил по городу без велосипеда. Уверен, что так оно и есть, потому что, однажды заблудившись, я попал в квартал переулков, стены которых почти касались друг друга. Из-за ограды торчала голая слива, усыпанная розовыми цветами, в сумерках горели нарядные фонари, зазывая в кукольный ресторанчик, и по мостовой, уступая взрослым дорогу, катили дети, ловко держа одной рукой зонтик.
Но чаще я путешествую под землей, где токийцы проводят оставшуюся от работы жизнь. В метро спят, читают мангу, переписываются по телефону, тешатся видеоиграми и копят сексуальные фантазии: подземка – популярный сюжет японской порнографии. Времени хватает на все, потому что метро покрывает значительную часть архипелага. Станций столько, что, в отличие от Москвы, тут никто не помнит наизусть схему линий. Нам, безграмотным, от нее проку мало, и меня за собой водила переводчица, говорившая по-русски, по-московски акая. Девочкой она училась в русской школе и даже была первой и единственной японской пионеркой. Ради нее пришлось изменить текст пионерской клятвы. Перед лицом товарищей она обещала хранить верность сразу двум коммунистическим партиям – Советского Союза и Японии. В память об этом мы начали экскурсию с буддийского кладбища, где лежит Рихард Зорге.
– Раньше, – объяснила она, не оставляя тему, – здесь принимали в пионеры детей советских посольских работников.
Но и теперь могилу не забыли, судя по корзине свежих цветов. На плите с трехъязычной надписью я обнаружил окурок и пластмассовый стаканчик с водкой.
Утолив ностальгию, я запросил экзотики, и мы отправились в храм Мэйдзи. Император, которого считают японским Петром за то, что он просветил нацию и сделал ее опасной, удостоен целого леса в центре города. Внутри – мемориальный храм: ворота-тории из тайваньских кедров и открытый, как сцена, алтарь для богослужения.
День был субботним, солнечным и по астрологическому календарю счастливым, поэтому необъятный двор заполняли свадебные процессии. Гости – в костюмах и платьях, молодые – в кимоно, жрецы – в белоснежных шароварах и черных шапках из накрахмаленного шелка. Шествие открывал оркестр гагаку – с бронзовыми колокольчиками и губным органом.
Все это я уже видел, но только на картинках – иллюстрациях к “Принцу Гэндзи”, сделанных задолго до того, как на прибрежных болотах вырос этот сравнительно молодой город. Старину в Токио вернула экономика. Еще недавно модной считалась западная свадьба. По всей Японии настроили фальшивых церквей без крестов, но с алтарем, где венчали с фатой под Мендельсона. Кризис, однако, разорил и этот бизнес, вернув молодоженов в более дешевые синтоистские храмы.
Став свидетелем свадебных церемоний, я не удержался от расспросов. Дома я робко прислушиваюсь к шепоту политической корректности. Но за границей пускаюсь во все тяжкие и выясняю скрытую от посторонних котировку женихов и невест. Чтобы узнать, кто как к кому относится, надо разобраться в устройстве брачного рынка.
В Израиле, например, все евреи – братья, которые, с точки зрения заботливой свекрови, делятся на сорок категорий. Выше всего ценятся немецкие евреи – их меньше всего осталось. Американцы в хвосте, сефарды – за воротами.
Японцы женятся на японках. Исключение – корейцы.
– Хорошие хозяева, – объяснила мне переводчица, – только в Бога сильно верят.
– В какого?
– В вашего. А то у нас своих мало – в каждой роще.
– А китайцы?
– Исключено. Вероломная нация, у нас-то все на лице написано. И никаких представлений о манерах, ритуалах, приличиях. На пол сядет, ноги скрестит, меня бы мать убила.
– А американцы? – спросил я, покинув Азию.
– Открытый народ, – вздохнула собеседница, – знаешь, чего ждать. Уж лучше французы.
– Чем?
– Чем остальные, японок любят.
– Остались русские.
– Мы их любим, особенно Достоевского и Тарковского, но больше всего – Чебурашку.
– Вы и в него верите?
– Наша религия не ревнивая.
На прощание я полез фотографироваться с невестой в прокатном кимоно с журавлями.
На меня не обиделись, но переводчица ласково сказала:
– Кокиси́н оусэйна га́йдзин.
Я потребовал перевода.
– Это такое поэтическое выражение.
– А значит-то что?
– “Любознательный варвар”.
Буддизм по воскресеньям
Я так уважаю любую религию, что ни одной не верю. Мне кажется, что одно просто не связано с другим. Вера, как седина, от тебя не зависит. Она заводится в недоступных потемках подсознания, да и остается там. Верить можно только в то, что будет, а опыт показывает, что будет всегда не то, чего ждешь. Но если вера живет в кредит у будущего, то религия кормится настоящим. Как спорт, она требует упражнений, а не сочувствия.
Привыкнув проверять все метафизические тезисы на практике, я искал место, где знакомое встречается с неведомым. Случай не подвел. Как-то весной я наткнулся на студию японской художницы Кохо. Уже прожитых восемьдесят лет не мешали ей курить, краситься и удовлетворять духовный голод желающих при помощи суми-э (так называют живопись тушью те, кто о ней слышал).
Величие этого дальневосточного искусства в том, что, соревнуясь с реальностью, оно добровольно отдало сопернице все преимущества, начиная с цвета. Уступив природе дорогу, суми-э оставило себе кисточку, тушь и бумагу. Комбинируя их в раз заведенном порядке, художник пишет не портрет, а схему мира. Мы просто пачкали бумагу.
Первым делом Кохо научила нас писать бамбук. Суть умения в том, чтобы набрав в кисть разбавленной туши, вести руку по бумаге на одном вздохе. Выдох оставляет пробел, а новый вздох образует новое коленце. После того как скромные кляксы изобразят узлы сочленений, даже у новичка получается нечто, напоминающее удочку в профиль.