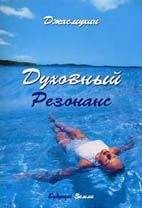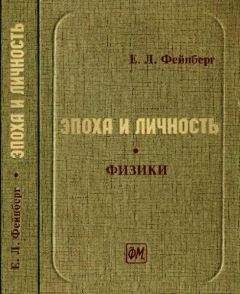Роман Редлих - Сталинщина как духовный феномен
Поскольку все эти процессы протекают на материале живого великорусского языка, или соответственно на живых же языках других подвластных Сталину народов, сложившиеся до революции образы и смыслы тоже продолжают жить, беспорядочно переплетаясь с новыми, внесенными большевиками смыслами и образами. Слова приобретают двойное, тройное, а иногда и четверное значение.
Всё это вместе и составляет своеобразный «советский» язык, никому до конца не понятный и никем еще в этом аспекте не исследованный. Нам стоит на нем остановится, ибо дух сталинизма отражается в нем гораздо более стихийно, чем в официальной доктрине, как в кривом зеркале искажающей все, что оформяется ею.
Этот «советский язык» есть не что иное, как вызванное сталинизмом катастрофическое окостенение языка, окостенение, протекающее весьма сложными и кривыми путями.
Прежде всего, язык творится лишь отчасти сталинизмом. Его развитие есть результат взаимоотношения власть — подвластные, красной нитью проходящего через всю советскую жизнь.
Современный советский словарь (понимая здесь под ним лишь неологизмы и переосмысления) не есть поэтому только язык сталинских мифов и фикций. Он отражает разом как фиктивное содержание нового понятия, так и отношение к нему власти и подвластных, и его тайный, эзотерический смысл.
Кстати, количество собственно неологизмов, т. е. чистых новообразований в современном русском языке, не так уж велико, если не считать, разумеется, всевозможных сокращений. Те из новых слов, которые внесены народным словотворчеством, вроде авоськи, болельщика, вошебойки — обычно превосходны, отражая, главным образом, стихию советского быта. Насаждаемые сверху, такие, скажем, как абортарий, беседчик, затейник — значительно хуже, но относительно немногочисленны.
Гораздо распространеннее морфологические новообразования, главным образом, префиксальные, как безаварийность, безотказность, внеплановость, завышать — занижать и т. д. Они мало свойственны Духу русского языка и, может быть, как раз поэтому звучат определенно по-советски. Именно они отражают давление власти на население. Их источник — трескучий партийно-административный жаргон, до отказа насыщаемый столь характерными для советской власти элементами лозунгообразного приказа, основанного на фикции.
Мы не будем останавливаться на сокращениях, поток которых, кстати сказать, в последние годы значительно поиссяк. Многие из них, выступившие в свое время в подчеркнуто номинативной функции, остались затем не у дел. Например, буквенные сокращения типа ВСНХ, ГИХЛ, ЦЕКУБУ и т. д., отчасти и слоговые: ГлавГум, и прочие главки, Центроснаб, Наркомпочтель и др. в том же роде. Систематические переименования советских учреждений, несомненно, тоже сыграли здесь свою роль.
Немецкого типа склеивания, напротив, хоть и в значительной мере искусственно введены в русскую языковую систему, оказались весьма продуктивными — все эти колхозы, агитпункты, партбилеты, бесконечные образования с авио, — авто-, гос-, кож-, хоз-, в начале, главным образом, слова. Эта категория слов жизненна потому, что большинство из них обозначает новые совершенно реальные предметы, созданные большевиками и требующие точного словесного обозначения. Колхозы, агитпункты, госпоставки и хозрасчеты не фикции, а действительно новые предметы и отношения, не существовавшие до советской власти и существующие только в условиях социализма.
Любопытный перегиб в словотворчестве этого типа представляли собой, теперь уже прекратившиеся попытки обольшевичивания языка словами типа пролет-литература, индпошив, кожпальто, ячкаша и др.; поскольку эти неологизмы не отражали ни новых фиктивных, ни новых реальных понятий, они просуществовали недолго и умерли в младенчестве. Очищение от них языка произошло параллельно с отмиранием ранне-большевистской революционной идеологии и с переходом от мифов к фикциям.
Знаменитая «дискуссия о языке», проведенная по инициативе партии и объявившая войну разжигавшейся в двадцатые годы самой же партией враждебности к «литературности» речи и к «интеллигентности» фразеологии, с изумительной легкостью положила конец хаотическому словотворчеству первого периода революции, и в частности наплыву бесконечных вульгаризмов, особенно в языке молодежи и так называемой «молодежной литературы». Болтология (ленинское словечко!), буза, бузотёр, гаврилка, загнуть, заначить, засыпаться, хахаль, шухер и т. п. за редким исключением исчезают из языка.
С переходом от раннего большевизма к сталинскому его этапу, в результате сталинской революции сверху внимание власти переключилось со словотворчества на творчество речевых шаблонов, попытки революционизации языка уступили место всё усиливающемуся процессу его окостенения, созданию речевых шаблонов и трафаретов.
Положительный вклад большевизма в русский словарь в узком смысле этого слова, по сравнению с произведенными им социальными сдвигами, вовсе не велик. Появились новые понятия, реальные (колхоз, госпоставки), и фикционалистические (запланировать, проработать), некоторые из этих понятий обозначены новыми словами, но далеко не все и даже не большинство.
Словарь не отражает полностью советского духовного мира. Многие новые слова незначительны по своему содержанию; с другой стороны, многие из самых существенных сторон системы находят выражение в старых словах, правда, взятых в измененном значении. Советский язык никак нельзя сводить к словарю. Советский язык это русский язык, сравнительно мало обремененный неологизмами, но внутренне деформированный стихией активной несвободы.
Советский язык не свободен; это в нем главное. В изучении его надо исходить именно из этой его несвободы.
Основное направление давления, которое оказывается сталинизмом на язык, лежит вообще не в плане словотворчества, а в плане переосмысления уже наличествующих слов, причем переосмысление это означает по большей части перекрытие прежнего смысла новым, двойным смыслом: 1) экзотерическим, порой фикционалистическим, порой совершенно фиктивным и 2) эзотерическим, тайным, но действительным. Прежний смысл слова при этом не исчезает бесследно, но продолжает жить в виде драгоценного для пропаганды эмоционального обертона и не менее драгоценного источника ложного его понимания и оценки.
Замечательно, что для обозначения чистых фикций в сталинизме, за редчайшим исключением (вредительство, самокритика) нет новых слов. Фиктивное значение, как правило, приобретают старые слова, иногда вышедшие уже было из употребления, причем одновременно с этим фиктивным значением они приобретают еще и второй смысл. Эволюция таких терминов, как свобода, гуманность, прогресс, преданность, дружба, честь, могут служить здесь достаточно убедительными примерами.
Повторим еще раз: словотворчество в СССР бедно, и тот, кто захотел бы составить представление о русской революции путем изучения советских неологизмов достиг бы цели только для раннего его периода. Для выражения своих понятий большевики сталинской эпохи пользуются готовыми словами, а не создают новых. Такие выражения, как «морально-политическое единство советского народа», «животворный советский патриотизм», «низкопоклонство перед иностранщиной», «безродные космополиты, эти беспачпортные бродяги в человечестве» и множество подобных сами по себе не вызывают особой тревоги за судьбу русского языка. В своих формулировках, быстро становящихся речевыми штампами, сталинизм охотно пользуется словами с несколько даже устарелым колоритом: бдительность, двурушничество, доблесть и т. д.
В последнем периоде своего развития советский словарь вообще имеет тенденцию к сближению со словарем Союза Русского Народа и иногда даже перекликается с афишками Ростопчина: та же нарочитая вульгарная нерачительность, та же напыщенно-эмоциональная сусальность.
Переосмысление слов в интересах большевистского их употребления в основном идет по двум линиям. Во-первых, как мы уже упомянули, все понятия об идеалах и ценностях приобретают новое содержание. Во-вторых, целый ряд слов как бы наново осваивается и приобретает весьма характерный про- или антисоветский эмоциональный оборот.
Процесс переосмысления совершенно естественно начался вместе с зарождением марксизма, (слова свобода, демократия, диктатура, например, переосмыслены уже Энгельсом), но не закончен еще и сейчас. Он захватывает постепенно все слова, означающие ценности и идеалы, как положительные, так и отрицательные.
Такие понятия, как законность, мораль, долг, справедливость, постепенно втягиваются в процесс переосмысления. Вместе с большевизмом появляются революционная законность, классовая мораль, пролетарский долг и т. д. Это уже первый этап переосмысления. Ибо между законностью вообще (или формально, буржуазной законностью) и новой революционной законностью ложится непереходимая грань. Смысл, казалось бы исключаемый самим понятием законности прекрасно укладывается в понятие «законности революционной». И не только укладывается, но и заполняет его совершенно, изгоняя прежнее «буржуазное» понятие. Прямо противоположно всеобщему в наше время пониманию законности «революционная законность» оказалась тем самым, на основе чего возможно, скажем, двух подсудимых, обвиненных в совершенно одинаковых преступлениях, судить совершенно по-разному: одного — осудить, а другого, принимая во внимание его пролетарское происхождение, — оправдать.