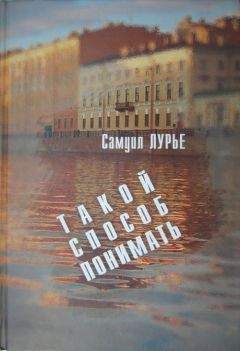Самуил Лурье - Железный бульвар
Ведь он же не честолюбец и не утопический филантроп. Деньги для него всего лишь воплощают личный покой.
«Нет! Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»
(Уже бродят в мыслях: и тройка, и семерка; покой, конечно, — туз.)
Желает монетизировать свою будущность. Обустроить единоличный пенсионный фонд. Ради чего расхаживает зимой в одном сюртуке и отказывает себе в бытовых удобствах. Как вульгарный жадина. Торопливый. Неразборчивый. Готовый на подлость. Или на две — например, не только сыграть в карты без риска, но и сделаться ради этого любовником восьмидесятисемилетней старухи.
Даже на три: скажем, завести романчик с девицей, чтобы проникнуть в чужой дом, — а в случае чего, ее же и подставить — типа я не вор, а мне назначено свиданье.
То есть знакомую нам всем нормальную хроническую тревогу человека без денег Пушкин передал человеку при деньгах.
И этот-то человек — не в проигрыше, не в несчастье, вообще отнюдь не на краю — валяется в ногах у чужой тетки, произнося такие слова: умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, что ни есть святого в жизни… не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню…
Тут подлость, как это с ней бывает, впадает в пошлость. До правнуков, кажется, и Чичиков не доходил. Не говоря уже о том, что его афера несравненно смелей и остроумней. Зато и бизнес-план в абсолютных цифрах скромней.
Хотя и Германн, в сущности, плавает мелко. Подумаешь, 700 процентов. Прибыль, спору нет, знатная. Но как-то не впечатляет. Эффект — это когда не было ни гроша, да вдруг миллион. А сделать из 47 тысяч — 376, — при капитализме (даже слаборазвитом) не такой уж фокус, чтобы из-за этого обнажать ствол, падать в обмороки, смотреть кошмары.
Но фараон (он же штосс) — это вам не рулетка. Сорвать банк, поставив какой-нибудь пустяк, — не получится. В трех талиях максимальный для понтёра результат — эти самые 700 процентов, или «сетельва» (sept-et-le-va). Чтобы игра стоила свеч (чтобы, значит, все столпились вокруг стола и затаили дыхание), Пушкин должен был сунуть в карман герою банковский билет на первый куш.
И преплоский оказался бы анекдот, не сойди герой с ума.
Да только он не сходит. Он болен уже на первой странице. В «Пиковой даме», назло модным ужастикам, над которыми повесть смеется, — безумие не подслащено, не подсвечено мелодрамой (почему Петру Чайковскому и пригодился Модест).
Самое важное случается не в игорной зале. И не в спальне графини (где ревматолог). А в темном кабинете (где терапевт): помните, Германн там стоит, прислонясь к холодной печке?
На витой лестнице (ведущей в стоматологию) и в комнате Лизаветы Ивановны (гинекологический кабинет).
Внезапная фраза — переворачивающая сюжет и сердце! — «Германн сел на окошко подле нее и всё рассказал»!
Их разговор при догорающей свече.
И как он поцеловал ее наклоненную голову.
Спустился по витой лестнице, отпер боковую дверь, вышел на поперечную улицу.
Эта дверь теперь укреплена раздвижной стальной решеткой.
А улица — Гороховая. В ста шагах разместилась ЧК. С ненормированным рабочим днем. Городской транспорт практически не действовал. Сотрудники питались и освежались сном прямо в учреждении. Понадобилось, предполагаю, что-то вроде ведомственной гостиницы. Отчего бы и не к покойной Даме пик? Только обои ободрать да мебель изрубить. (Участь ковров гадательна.) Когда благосостояние конторы возросло, передали здание на милицейский баланс. И стала из спецобщежития — спецполиклиника.
В конце одного коридора — старинный столик, на нем зеркало. И на площадке парадной лестницы — тоже зеркало, громадное, в раме со следами позолоты. Такие же следы — на перилах. И на двух-трех красного дерева филенчатых дверях — резьба: длинные стебли, круглые цветы.
Остальная обстановка — без качеств, поэтому не поддается эпитетам. Только страшно не хочется, чтобы вечность выглядела именно так.
Пространством называется то, что окружает тела. Временем — то, как они исчезают.
7 января 2006
МАРСОВА ПЕЩЕРА
«Идею строительства под Марсовым полем подземной парковки озвучил председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам…»
Из газетА лично я не против.
Во-первых, потому, что меня не спрашивают. Во-вторых — если даже и спросят, все равно сделают как хотят.
В-третьих (строго между нами), это самое Марсово поле — довольно скучное место. Ночью так даже зловещее. А днем, в жару, милиционеры почти не дают тени. И нечего там делать, и куда ни пойди — никуда не придешь.
И стихи Луначарского с Берггольц пышут пафосом фальшивым. Хотя никто их не читает, а кто прочитает — не поймет.
Ну да, ну да: перед вами братская могила каких-то безымянных бедолаг, ровно девяносто лет назад расстрелянных тогдашним питерским ОМОНом при разгоне тогдашнего Марша несогласных.
Но это значит, что умерли они за Февральскую революцию — про которую в школе как учили всю дорогу, так и учат, что это было какое-то недоразумение, сплошной смешной кавардак.
Сотня (черная) писак и один великий писатель и сегодня кроют эту революцию благим матом.
Поскольку и в самом деле — ничего такого особенного она народу не дала, кроме абсолютно не нужной ему свободы, которую он через несколько месяцев с удовольствием потерял.
Я согласен: это достаточная причина, чтобы фотографироваться тут перед брачной ночью. Вполне разумный обычай: фон — самое то.
Но и для подземной автостоянки противопоказаний тоже не вижу.
Если только не представлять себе данный сегмент земного шара в разрезе: сгусток жидкого огненного ядра, над ним — кусок багровой мантии, выше — каменная кора, еще выше — ил, перемешанный с песком, и тут же бетонный пузырь с нашими «мерседесами» внутри; над «мерседесами» — мертвецы, над мертвецами — Вечный огонь, поверх всего — Администрация в брючном костюме, сиреневом, как туман. (В складках брюк, естественно, — орлы: вице-губернаторы, столоначальники и т. д.)
Чертеж действительно неаппетитный. Чтобы он не стоял перед глазами водителей (что чревато авариями), — отселить мертвецов куда-нибудь к Ударникам. А орлы пускай копают себе спокойно: рост благосостояния требует пещер. Под стогнами, под стогнами.
Хотя и выше уровня моря имеются резервы: Большой Дом, например, — чем не гараж? Отмыть въевшуюся кровь — и пользуйтесь на здоровье.
Апрель 2007
ФЛАГ НАД КУНСТКАМЕРОЙ
Хотите — верьте, хотите — нет: некогда и я баловался петербургским сепаратизмом. Верней — ленинградским, поскольку дело было в цветущей советской юности.
Как-то в компании собутыльников по Ленинградскому ордена Ленина имени Жданова (сокращенно — ЛОЛГУ) я поставил на обсуждение такой проект: развести мосты — Дворцовый, Лейтенанта Шмидта, Тучков и Строителей (ныне, кажется, Биржевой) — поднять над Академией наук либо над Кунсткамерой флаг Вольного Васильевского Острова — в ту же секунду посредством «Голоса Америки» объявить на весь мир, что ВВО, добровольно присоединяясь к одной из островных держав — к Великобритании, либо к Индонезии, либо к Японии, — просит ее принять ВВО под свою защиту.
Последний пункт вызвал разногласия. Кое-кто предлагал конфедерацию с Исландией либо с Мадагаскаром. Сейшельские и Антильские никому в голову не пришли — должно быть, потому, что сами тогда (1963, что ли, год) не обладали политической независимостью. По той же причине отпадали острова Пасхи, а также Зеленого Мыса.
Сейчас я и сам, пожалуй, предпочел бы Мадагаскар: в свое время этот остров едва не сделался российским владением; старая любовь не ржавеет; но, боюсь, Мадагаскару не хватило бы военного авторитета защитить Васильевский, — даже если бы нас, что вряд ли, поддержали Петровский и Елагин.
А тогда, в 1963 году, мы допили, что там у нас было (наверное, болгарскую «Гъмзу», трехлитровый, оплетенный бечевкой сосуд темного стекла), докурили болгарскую же «Пчелку», разошлись — и все позабыли. То есть никто не то что не настучал, а даже не проболтался — вот были люди! — по каковой причине ваш покорный слуга избежал общих работ; катался в зреющем социализме, как все равно сыр костромской в масле вологодском.
ПлагиатЕсли честно, идея была не моя. Еще будучи школьником, я почерпнул ее в уборной нашей коммунальной квартиры из запрещенной пьесы расстрелянного Михаила Кольцова (если не ошибаюсь) «Сорок девятый штат». На родительских книжных полках было почему-то (ни у кого руки не дошли прополоть библиотеку) довольно много таких изданий, за которые никого из нас не погладили бы по головке, — мне, стало быть, светил интернат для ЧСВР (членов семей врагов народа), но тоже обошлось. Я читал их — как и всё подряд, — естественно, без спросу, по ночам, в сказанном помещении, на деревянном стульчаке, имея над головой тусклую зыбь стиральной доски, защищенный от внешнего мира проволочным дверным крючком.