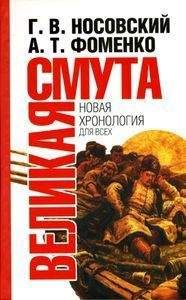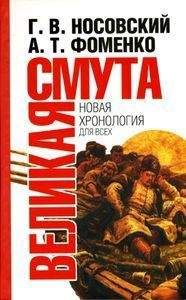Николай Плахотный - Великая смута
– Послезавтра уже улетаю в Москву.
В глазах Владимира забегали огоньки:
– Утром созвонимся.
Вот когда до меня дошло: до полной гармонии нашей компании сильно не хватало третьего. Интуитивно взял его роль на себя. Напрямик говорю Емельянову:
– Ты меня, братец, заинтриговал. Как я понял, в папке, побывавшей в руках академика Лазарева, находились секретные бумаги, проливающие свет на предтечу Великой Отечественной войны. Лично я в больших сомнениях от того, чем нынче народу забивают голову генерал Волкогонов, мадам Новодворская и бывший секретарь ЦК КПСС, зодчий перестройки Яковлев.
– Их версия в корне враждебная.
– Поделись же эксклюзивной, как теперь модно выражаться, информацией, коль я того достоин, – и включил диктофон. Для подстраховки положил у ног потрепанный редакционный блокнот.
Вот что отложилось на магнитной пленке.
За две недели до начала кампании на Восточном фронте фюрер собрал в служебном кабинете из мореного дуба четырнадцать маршалов, а также маститого министра Риббентропа. Предстояло внести последние штрихи в оперативный раздел «плана Барбароссы».
Общее настроение было мажорное. Воспользовавшись паузой, поднялся фельдмаршал Клюге:
– Мой фюрер, есть вопрос. «Могут ли славные наши войска рассчитывать на поддержку сочувствующих изнутри?»
Ответ был предельно откровенный:
– «Пятую колонну» Сталин разогнал в тридцать седьмом и тридцать восьмом году. Однако фрагменты остались. Они ждут сигнала «Ч».
В памятном 1945-м протокол заседания попал в руки фельдмаршала Боку, бывшего в числе четырнадцати персон, приглашенных на тайную вечерю. В суматохе он переметнулся на американскую сторону. Долго скрывался. Блуждал по белу свету. На закате жизни у старого вояки совесть заговорила. В Аргентине он передал военному атташе Советского Союза кожаную папку с тисненой нацистской символикой. Вместе с протоколами в ней оказались агентурные списки предателей Родины. Эти имена теперь известны всем: генерал-лейтенант А. Власов, генералы П. Понеделин, С. Банд ера, В. Малышкин, Г. Жиленков и др. В 1937-м их не разоблачили, они вывернулись, избежали кары, так что предательство перебежчиков в начальный период войны стоило миллионы невинно загубленных жизней.
Как, однако, противоречиво земное бытие. Как трудно, очень трудно порой провести четкую грань между добром и злом.
Остывшее солнце коснулось верхушки дуба, запуталось в ветвях. Мы оказались в тенечке. Пора было снова наполнить граненые стаканчики. Что Емельянов и сделал изящно, почти профессионально. Опорожнять содержимое, однако, не торопились.
– Сдается мне, – молвил виночерпий, не подымая головы, – обстановка в мире сильно напоминает ту, что имела место полвека назад. Ухищрения западной дипломатии и тогда и теперь были направлены на то, чтобы извести СССР, прекратить его существование любой ценой, чего бы то ни стоило. Причем агрессия подло закамуфлирована, украшена трогательными бантиками, нежными цветочками.
– Поконкретней, пожалуйста.
Емельянов достал записную книжку. Быстро нашел нужное. Читал, чеканя слова: «Большевики угрожают всему миру. Мы призваны спасти мировую культуру от смертельной угрозы большевизма, освободить путь человечеству для истинного социального прогресса».
– Так мотивировал Адольф Гитлер великую необходимость и суровую неизбежность исторического хода событий, ибо того желали небеса. Он же являлся всего лишь исполнителем воли судьбы.
После паузы предводитель пролетариата Приднестровья изрек:
– Еще одно изречение. На сей раз уже нашего современника. «Советский Союз – нетерпимая и невыносимая более империя зла». Автор, надеюсь, известен?
– Более чем.
– И ведь сказано было в присутствии Горбачева. Однако президент наш даже ухом не повел. С удовольствием проглотил плевок.
Налитое вино нельзя долго держать в стакане. Мы сблизили наконец стаканы. Единым духом опорожнили, словно неразбавленный спирт.
За нашими спинами трижды прокричал ворон. По народным поверьям, птица сия связана с потусторонним миром, а также с колдунами и волхвами.
Само собой с языка сорвалось:
– И каков же прогноз?
Товарищ отреагировал спокойно:
– Я ведь не пророк. Давай-ка завтра спытаем у академика.
К сожалению, загад не сбылся. Днем раньше Лазарева на «скорой помощи» увезли в Центральную клиническую больницу.
КОМУ ЧТО ДАНО
Связь с Молдовой я и в Москве не порывал. Изредка встречался с приезжающими в «белокаменную» друзьями. Получал весточки, перезванивались.
Как-то в Доме литераторов лоб в лоб столкнулись с Георгием Маларчуком. Дружны мы были со студенчества и потом еще года три-четыре. Затем пути разошлись, связь ослабла. Гица (ласкательное от Георгия) стал известным в республике писателем. Оказался в стане «зеленых». Много времени и сил отдал борьбе за сохранение природы родного края. С этими проблемами регулярно выходил на страницы местных газет и журналов, а также союзных изданий. Шагал по жизни борзо, размашисто. Его рабочий кабинет в Союзе писателей Молдовы буквально осаждали люди с обожженными крыльями. В то же время его взяли в кольцо какие-то прилипалы и авантюристы. Опутали талантливого публициста тенетами, заманили в политический вертеп правого толка. В итоге Гица оказался в активе народного фронта, даже в самом руководящем центре.
По должностному, так сказать, положению был он вхож (и по первому же звонку принимаем) важными чиновниками, на самом высоком уровне. Впрочем, неформальное отношение сильных мира к своей персоне Георгий Павлович воспринимал как случайное недоразумение, как «любовь без взаимности». В то же время странной была любовь к интеллектуальной шушере, традиционно составляющие своеобычный элемент, скажем так, не только литературного процесса, а и митинговой бучи. Я слышал от многих, что эта братва считала Маларчука своим незаменимым коновалом.
– Не подпортит ли твою биографию связь с оголтелыми? – спросил я напрямик приятеля за ресторанным столом.
Он засмеялся громко, заразительно:
– Ай, не бери в голову. Эти парни и девки скоро перебесятся, обзаведутся семьями и займутся подходящими делами.
– Что называешь ты делом подходящим?
– Служение народу на своих рабочих местах.
– Фрателе, ты их послушай. Они же убеждены, что уже служат народу и делают великое дело.
Маларчук положил ладонь на мой локоть.
– Согласен, среди «босяков в смокингах» немало случайных людей. Затесались в народный фронт по пьянке, по недоразумению или в силу товарищеской солидарности. Есть поговорка: «Цыган за компанию утопился».
Мне захотелось возразить.
– Георгий, ты упрощаешь. Давай судить не по словам, а по делам. Сколько уже всего наворочено! Да и крови человеческой пролито немало. Ты лучше меня это знаешь.
Фрателе мой набычился, помрачнел, потянулся к бокалу. Сделал глоток, дегустаторски прочувствовал вино.
– В отряде есть хорошие, порядочные люди, с которыми я готов идти на край света. Хотя есть и такие, у которых мозги набекрень. Затесались рвачи, шкурники. Но беда не в примазавшихся, не в случайных попутчиках, а в том, кто за их спинами стоит, которые прячутся за ширмами Ты понимаешь, невидимки-то и творят шабаш. Подначивают, заводят эту братву. Дергают за ниточки. Те и рады стараться. Словно малые дети кривляются и, как ты заметил, на публике бузят.
Положил ладонь на край стола, словно тапер, стал барабанить пальцами что-то ритмическое.
Мимо нашего столика прошмыгнула Капа Кожевникова.[4] Георгий церемонно поклонился.
Кожевникова когда-то работала собкором «Комсомолки» в Молдавии. Привязалась к этому краю, писала много дельного о жгучих его проблемах. После «отделения» Молдовы от Союза продолжала наведываться в дорогие сердцу места, но как публицист оставила молдаван в покое. Ходили противоречивые слухи. Одни говорили, будто Капу припугнули правые; другие болтали, что ее подкупили левые. На чужой роток не накинешь платок! Но факт есть факт: имя этой яркой журналистки уже давно не венчают рассудительно-страстные очерки из бессарабской жизни. Вскоре Кожевникова перебралась на берег Гудзона. Хотя ее пера так теперь в СНГ не хватает.
И тут же мысль попутная. Многие братья и сестры из журналистского корпуса, которые сильно старались и действительно много сделали для «перестройки», для «реформ», через какое-то время тихо слиняли за кордон, где устроились «очень даже ничего». Можно подумать: не для себя они, дескать, старались, а для народа. Но можно сказать и так: не пожелали хлебать ту кашу, которую впопыхах заварили. Хотя в числе беглецов хватает и трусов, которые чувствуют свою вину перед Отечеством, боятся гнева прозревшего народа.
Но я забежал вперед. Тогда в зале ресторана Георгий вдруг обронил:
– Продолжим разговор в Кишиневе. Приезжай, не пожалеешь. Съездим в Путну, поживем в келье.[5]