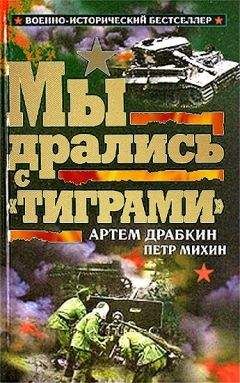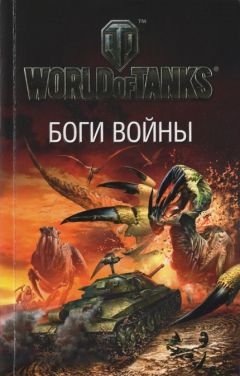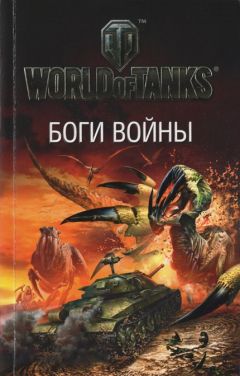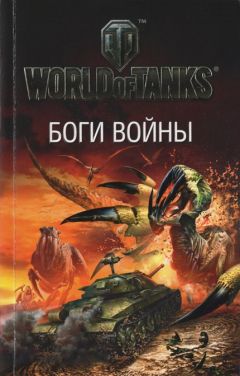Артем Драбкин - Мы дрались против «Тигров». «Главное – выбить у них танки!»
Командира взвода лейтенанта Кузнецова и нас опять потащили в особый отдел. Вызвали меня, спрашивают, где документы? Я говорю, зарыл. Они говорят: «Хорошо, проверим. А где панорама?» – «Вот она». – «К тебе вопросов нет, иди». К остальным тоже вопросов не было. Второй наводчик тоже сохранил панораму. А командира взвода за потерю пушек и подкалиберных снарядов и за предыдущий эпизод отдали под трибунал…
И вот 1945 год. Я иду по мосту через Одер, обгоняет меня полуторка. В кузове капитан лупит во всю силу кулаком по кабине. Машина останавливается. Он соскакивает, подбегает ко мне: «Здорово!» – «Здравия желаю, товарищ капитан». – «Ты что, меня не узнаешь? Ты что, своего командира не узнал?» – «Ой, лейтенант Кузнецов!» Был в штрафбате, в первом бою ранило, судимость смыл кровью и к концу войны уже был начальником штаба артиллерийского полка. Минут пять мы поговорили, шофер кричит, торопится. Даже не успели адресами обменяться. Обнялись на прощание, он в кузов, я – к себе. Только они уехали, летит немецкий самолет и тащит за собой маленький самолетик. Я у солдат спрашиваю: «Что это?» – «Это большой маленького купаться везет». Недолетая немного до переправы, маленький самолетик отцепился и пошел в пике, на нас, но не долетел до моста, упал в воду и взорвался.
Помню, в станице Морозовская захватили немецкие армейские склады. И мы, и местные жители вдоволь попользовались их продуктами. Когда шли по улице, жители выхватывали солдат из строя и уводили домой в гости. Ко мне старушка подходит со слезами: «Сынок, у всех гости, а ко мне никто не идет. Пойдем ко мне». Я пошел. В одной комнате чугунки с горячей водой стоят, в другой комнате – корыто, рядом – чистое белье. Она говорит: «Сынок, ты помойся, смени белье, грязное брось в угол, я потом постираю». – «Да не надо белья». – «Нет, переоденься, это белье моего сына, может быть, его там тоже кто-нибудь обогреет». Я помылся, переоделся. Выхожу. На столе уже – сковородка с картошкой и тушенкой. Картошка у них, естественно, своя. А тушенка немецкая. Я первый раз за то время, пока был на фронте, наелся! Я говорю: «Спасибо, спасибо». – «Тебе спасибо, что не побрезговал, зашел». Пошел искать своих. Зашел в хату, смотрю, сидят. Уже все наелись, отвалились. За столом сидит ездовой Илья Беликов – такая, примерно 185 сантиметров ростом и килограмм на 100 весом, детина. Если нам, мелкокалиберным, солдатской пищи не хватало, то ему тем более! Перед ним здоровая сковорода. В ней тоже была картошка с тушенкой, но уже ничего нет – все съедено, а он все скребет ее и на лбу – градины пота, от усердия. Потом он вышел во двор, и я вскоре. Смотрю, а он сидит на орудийном передке, перед ним бочонок трофейного мармелада, и он саперной лопаткой лопает этот деликатес. Похохотали немножко.
Той зимой лошадей нечем было кормить. Фураж подвозили редко. Приходилось соломенные крыши разбирать на корм. Хотя солома наполовину с глиной, разве это корм?! Лошади себя-то не могли передвигать, не то что орудие. Перед взгорком этот Беликов распрягал лошадей, затаскивал их наверх, а потом брал на плечи станины «сорокапятки» и один ее затаскивал! Потом, когда я попал в механизированную бригаду, я вздохнул с облегчением. Я люблю лошадей, но на войне лошадь – это не тот вид транспорта.
С Беликовым еще такой эпизод был. Как-то раз мы его послали на кухню. Он набил хлебными кирпичиками вещмешок. Как он нам потом рассказывал: «Иду и думаю, если сейчас кусочек не съем – упаду!» Отломил кусочек от булки и съел, потом еще и еще. И всю булку слопал. Его разморило, спать захотелось. Он подумал, что полчасика вздремнет, а потом бегом наверстает упущенное. Просыпается, а солнце уже садится. Думает: «Мне ребята голову снесут. Без хлеба ж сидят!» Кинулся бежать, больно. Смотрит, а у него задник у сапога разворочен и в крови. Когда спал, где-то разорвалась мина, осколком ранило его в пятку, а он не проснулся! Забинтовали ему ногу. В санбат не пошел. Молодые были – все быстро заживало.
В начале 1943-го дивизия куда-то передислоцировалась. Я был простужен и, видимо, была высокая температура. Шли ночью в снегопад. Я вцепился в повозку и дремал на ходу. Рука отцепилась, я упал и не проснулся. Ребята заметили, растолкали, подняли, я вцепился, прошел немножко и опять упал. На этот раз никто не заметил, и когда очнулся, никого рядом не было. Я валялся на дороге. Пытался понять, в какую сторону мне идти, но потом просто к обочине привалился и задремал. В это время ехала машина, в которой, как потом выяснилось, находился начальник политотдела 58-й механизированный бригады второго танкового корпуса майор Щукин. Он меня заметил, посадил в машину, увез. Через какое-то время я оклемался, и меня назначили наводчиком орудия ЗИС-3 в отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион.
Прошло много-много лет, я уже стал членом Союза писателей и решил написать мемуары. Два с хвостиком месяца сидел в Подольске в архиве Министерства обороны, листал документы 14-й гвардейской стрелковой дивизии. Попалось мне донесение политотдела дивизии, что утром, на следующий, после той ночи, когда я отстал, день, дивизия заняла оборону. Огневые позиции заняла и батарея «сорокапяток». При налете вражеской авиации погиб расчет под командованием сержанта Ильченко. Это мой расчет. Не заболей я и не свались, окажись с ними…
Несколько слов об орудии ЗИС-3. Оно было легкое. Если поднатужиться, я один мог его повернуть, а вдвоем это сделать, вообще, была не проблема. Вдвоем его и перекатить можно, а впятером и по песку тащить. Горизонтальный и вертикальный угол наводки были большими. Редко, когда за станину приходилось ее поворачивать. Один недостаток был у него – дальность прямого выстрела всего 600 метров.
Пошли мы в наступление. В Ворошиловградской области я в первый и единственный раз увидел психическую атаку немцев. Не как в фильме «Чапаев» – там шли плечом к плечу, а тут шли три цепи, и у них все-таки между солдатами было полметра расстояния. Это было дико… Нам потом говорили, что это была дивизия, только что прибывшая из Франции, в боевых действиях еще не участвовавшая. Мы подпустили их метров на 400 и открыли беглый огонь. Жутко было – их же много. Тут еще подбежало два пулеметных расчета – стало полегче. Я стрелял по ним, а потом командир взвода лейтенант Володя Красноносов говорит: «Миша, смотри, по гребню идет автомашина, за ней пушка, и солдаты сидят в кузове». Я один снаряд туда – машина в воздух, пушка кувырком, а я опять перешел стрелять по цепям. Уложили их всех. Ребята потом ходили по полю, искали фляги с коньяком. Раз уж они из Франции, то должен же быть коньяк?! Фляг было много… у каждого солдата, но коньяка нигде не было. Потому что ни одной целой фляги не было, все были продырявлены. Такой был огонь. Когда в Крыму из немецких пушек стреляли, никто даже спасибо не сказал, а тут я впервые услышал от командира взвода: «Спасибо, ты хорошо стрелял».
Через 2 дня, числа 11-го или 12-го февраля, вошли в совхоз «Челюскинец». Во взводе оставалась одна наша пушка. Где была вторая пушка, не знаю, но с нашей пушкой был командир взвода. Орудие поставили у крайней хаты, за которой начинался овраг. Нашей пехоты не было, да и где находится противник, мы не знали. Видим, за оврагом идет танк с крестом на башне. Я командую: «Бронебойный». Зарядили. Я кручу маховичками – сейчас влуплю. Вдруг из оврага выбегает человек в шинели нараспашку с полковничьими погонами, в руке пистолет. Подбегает ко мне: «Не стрелять, это наш танк!» Я говорю: «Какой наш, там кресты!» Он кричит: «Не стрелять!» Командир взвода дает команду: «Отставить!» Полковник нырнул за хату, и больше мы его не видели. Танк зашел за кусты, и как шарахнет по нам болванкой. Снаряд пролетел буквально в нескольких сантиметрах над щитом и развалил стену хаты. А нам уже стрелять было поздно. Мы потом между собой говорили, что это был немецкий разведчик. Я не могу утверждать этого, но до сих пор не могу себе простить, что я послушался его и командира взвода. Надо было его просто задержать, а потом пусть выясняют, кто он такой. Танк сделал только один выстрел и скрылся. Пока мы это обсуждали, засвистели, зацокали по щиту пули. Посмотрел, а на нас с правого фланга по глубокому снегу в полный рост идет цепь немецкой пехоты. Расстояние до нее метров сто. Мы свою пушку развернули – и давай стрелять! Много их уложили. Снарядов 15–20 выпустил. Те, кто живы остались, залегли в снегу. Я начал стрелять по кронам одиночных деревьев, что росли недалеко от залегших немцев. Штук 5 снарядов выпустил, и они не выдержали – вскочили и рванулись в овраг. Поднялось их человек десять, не больше. Мы опять пушку развернули, и если бы они появились на противоположном склоне оврага, мы бы их уложили. Тут подбежали наши разведчики с автоматами. Мы им говорим: «Ребята, в овраге немцы». Они выстроились вдоль оврага и давай палить по ним, перебили их. Один только перебрался на противоположный склон и из последних сил карабкался по нему вверх. Автоматный огонь его уже не достает. Володя Красноносов берет карабин, положил его на щит, прицелился, бац! И тот носом уткнулся. Потом мы с Володей Красноносовым ходили по этому полю. Из любопытства стали считать убитых немцев. Насчитали 140, потом плюнули и больше не стали считать. Короче говоря, у меня на счету появилось около 100 за психическую атаку и 150 вот за эту, да еще в одном из боев я бронемашину разбил, и меня представили к ордену Красного Знамени. Два дня назад командир объявил благодарность, а тут орден! Я под собой несколько месяцев не чувствовал ног! Но награждение не состоялось. Как в воду кануло. Наш второй танковый корпус был резервом командования, и нас иногда в день переподчиняли два, три раза. А поскольку таким орденом мог награждать только командующий армией, то могли представить в одну армию, а мы уже были в другой. Да и вообще мы вроде как чужие, чего нас награждать.