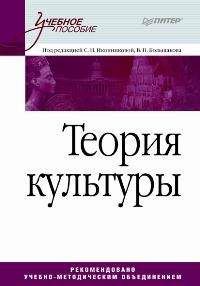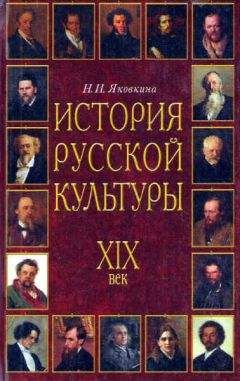Вячеслав Рыбаков - Письмо живым людям
То был второй звонок. Возможно, он прозвенел случайно. Просто совпало так. Но я уже чувствовал себя обложенным.
Поэтому, когда двое-трое коллег по востоковедению, до той лоры вполне равнодушные к моим литературным потугам, как-то очень одновременно стали спрашивать, нет ли у меня чего новенького почитать, я с трудом стал приучать себя говорить «нет».
Чуть позже я сделал одно исключение. Как оказалось, мой научный руководитель был в курсе этих сгущавшихся дел — и гораздо более меня, вероятно; насколько я понимаю, ему впрямую пришлось меня отстаивать тогда. Однажды он в лоб сказал: «У тебя, говорят, антисоветская повесть есть, а я и возразить не могу. Дай посмотреть». Через несколько дней он вернул мне папку с «Доверием», пробурчав нечто вроде: «Совсем с ума посходили…» Благодарность моя ему неизбывна.
Летом восьмидесятого вероятностная вилка моего будущего выглядела так: либо в ближайшие месяцы я сбацаю диссер, блистательный во всех отношениях, и до окончания истекавшего в ноябре срока аспирантуры хотя бы предзащиту пройти — и тогда еще можно будет как-то рыпаться дальше, либо по истечении срока вылечу из института, как пух от уст Эола. Причем никто мне этого впрямую, упаси бог, не говорил. Это как бы в воздухе висело.
Предзащита прошла, должен отметить для полной ясности, весьма триумфально; мой руководитель цвел, а один из самых одаренных китаеведов, участвовавших в процедуре, сказал с искренней радостью за меня: «На вашем месте, Слава, я завтра же ударился бы тако-ой загул…» Блистательный специалист по дипломатическим ритуалам средневекового Китая не подозревал, что у меня назавтра другие планы.
Назавтра меня вызвали в административный корпус Академии наук, но о делах научных и бытовых даже разговаривать не стали. «Тут еще один товарищ хотел с вами побеседовать».
Вполне интеллигентный и корректный человек, всего-то лет на десять старше меня (мне тогда было двадцать шесть), пригласил меня в черную «Волгу», и от знакомой с университетских времен набережной мы покатили в неведомую бездну.
А прикатили в райотдел КГБ. Это было совсем рядом с метро «Чернышевская», этажом выше над тогдашним комитетом комсомола.
Беседовали со мой то двое, то один, то опять двое по модели «добрый и злой». Добрым был привезший меня товарищ, злым — видимо, его начальник. Он нашвыривал резких фраз и обвинений, затем ненадолго выходил по каким-то другим делам, тогда добрый начинал хотеть мне помочь и задавал конкретные вопросы.
Оказалось, повести они не читали. Содержание им было известно из полученной телеги (или телег — они несколько раз специально подчеркивали, что получили несколько сигналов и из института, и из семинара фантастов; стандартный ход, заставляющий «пациента» подозревать всех и ощущать полное одиночество). Судя по их репликам и вопросам, в телеге повесть была представлена куда более крамольной, чем она была на самом деле.
Быстро сделалось понятно, что их не только повесть интересует. Время от времени, по возможности неожиданно, «злой» наугад пулял в белый свет. При удачном попадании такие залпы должны производить сильнейшее впечатление — но тут получался пшик. Скажем, Белла Григорьевна Клюева, делавшая в 60-х годах всю НФ в «Молодой гвардии», опубликовавшая там в ту пору почти всех Стругацких, ведшая знаменитую Библиотеку современной фантастики… Нас познакомили с нею еще в семьдесят пятом — совершенно замечательная женщина. И вот идет нудный разбор вопроса, почему силы охраны порядка при коммунизме называются в моей повести Службой Спокойствия, понимал ли я, что аббревиатурой здесь оказывается всем известное и понятное СС — и вдруг обухом, ни с того ни с сего: «Клюева помогала вам переправлять ваши рукописи за рубеж?»
Интересовала их и моя личная жизнь. «С родителями вашей подруги у вас идеологические расхождения? Вы пытались вести в их семье антисоветскую пропаганду?»
Особо и многократно вставал вопрос о тогдашнем семинаре художественного перевода с восточных языков. Его создал и до самой своей безвременной смерти возглавлял Борис Борисович Вахтин, китаевед и писатель, личность весьма яркая и, что называлось: крутой диссидент. Его «Дубленка» только что вышла тогда в известном «Метрополе», его «Солдат и фрау» с выражением читали по вражьим голосам; и вот автор сих произведений, со всеми, от Окуджавы до Максимова, лично знакомый, еще и молодежь вокруг себя собирает, а с ним в одном институте работаю, в одном помещении сижу! Два антисоветских литератора бок о бок — и притом я в семинар к Вахтину не хожу, в гостях не был ни разу и вообще в сколько-нибудь плотном общении не замечен… Это что значит? Это значит: общение наверняка конспирируется!
Вот на этом они землю рыли. Подпольная группа писателей, резидент голубых кровей и вербуемый сопляк, возможно, не один — это же очередной звездочкой пахло!
Каких только вопросов мне не задавали про вахтинский семинар в целом и по отдельности!
И опять пустышку вытащили мои собеседники. Зарубеж мне, по моей наивности, и даром был не нужен, там жили одни эмигранты, которых я, до мозга костей советский мальчишка, не уважал; а на семинар Вахтина я не ходил просто потому, что мне это было неинтересно.
Тогда так. «Сколько экземпляров повести вы распечатывали?» — «Четыре», — честно, как дурак, ответил я. «Все у вас дома?» — «Да», — неизбежно соврал я, смутно вспомнив, что за изготовление клеветы Родина дает в ухо один раз, а вот за распространение оной клеветы — уже три раза, и когда скорчишься, добавляет по почкам. «До вашего дома — сорок минут, — сказали мне. — Если вы и впрямь не распространитель, привезите нам через два часа все четыре экземпляра. А если привезете не четыре экземпляра, или если не уложитесь в срок — значит, их у вас дома нет и вы нас обманули».
Как метался я, пытаясь шустро добыть два находившихся у друзей текста, — это отдельный Хичкок. Одного читателя никак не было дома — это была моя еще школьная учительница математики, имя которой я много лет спустя увековечил, как сумел, в романе «Человек напротив». Помню, я чуть не плакал от бессилия, трезвоня ей в дверь. Другая, знакомая по институту востоковедения — с ней я по телефону договорился о встрече на «Чернышевской» точно на то время, когда мне надлежало с полным собранием хул под мышкой идти обратно сдаваться, — вообще не появилась; она, наверное, решила, что я как-то с нелепой суетливостью свиданье ей назначил, и, как часто делают женщины, согласилась и тут же забыла. Она-то как раз в семинаре Вахтина была звездой и вела себя, как звезде полагается. Уже чуть ли не за полночь я дозвонился до ее мужа и вновь помчался через весь город, от Политеха до Ветеранов, и муж вынес мне к метро недостающую четвертую папку…
А ведь надо было еще как-то это всё скрывать от родителей, чтобы они не волновались… Именно с тех пор я из дому не выхожу без валидола в кармане, лучше даже в нескольких — куда дотянешься.
К литературоведам в штатском я поплелся назавтра с самого ранья, ожидая чего угодно, вплоть до ареста.
Меня пожурили сурово. Потом погнали вон и вцепились в текст. Назначили мне явиться завтра для продолжения беседы.
Явившись, я сразу понял, что их разочаровал. «Не фонтан, — тоном великого критика сообщил мне «добрый». — Сюжет рыхлый, мотивации неубедительные…» Чувствовалось, что нужного им, ожидаемого ими градуса крамолы они не нашли. По доносу, похоже, получалось куда круче. Не светят звездочки…
Но что же — зря работали? Опять пустышка? Такого быть не может. «Вы у меня давно на примете, — в одной из бесед сообщил мне «добрый» и совершенно нежданно для меня на память стал цитировать строфу за строфой из «Песенки стукача», которую я написал еще на четвертом курсе (о студенчество! модели поведения, стандартный эпатаж… что я реально-то знал тогда о стукачах!), несколько раз певал на общежитских вечеринках и ко времени аспирантуры уже сам забыл давно и благополучно. «Не для корысти я служу, а ради дела. Чтоб сладко спалось в Мавзолее Ильичу, чтобы звезда Кремлевская горела — стучу, стучу, всегда стучу, на всех стучу…»
Именно тогда я впервые посмотрел на «доброго» с сочувствием: какой ерундой серьезный человек вынужден забивать себе голову по долгу службы! Стишата-то слабые!
Мне предложили добровольно сдать все четыре экземпляра (чтобы они не попали к нашим идеологическим врагам и не дали им лишний козырь), собственноручно написать об этом просьбу и в ней дать принципиальную оценку повести и итогов ее обсуждения на семинаре.
Эти три странички я писал, наверное, часа два.
Самым отвратительным был, конечно, пунктик об итогах обсуждения. Тут надо было воистину между струйками проскочить, как Микоян в анекдоте. Чтобы семинар не выглядел рассадником антисоветчины, надлежало напирать на то, что повесть там не понравилась и подверглась критике — и я припоминал реальную критику, памятуя, что мои здешние собеседники в какой-то мере наверняка знают, что за претензии предъявлялись и кем. Но чтобы объяснить, почему фантастическая общественность сама не вправила мозги начинающему антисоветчику Рыбакову и вывести ее из-под подозрений в пособничестве, я, с другой стороны, напирал на то, что вся критика лежала в чисто литературной плоскости; повесть, мол, не нравилась чисто художественно (опять-таки: сюжет рыхлый, мотивации неубедительные), и не боле того. Особо, чтобы хоть как-то отвести возможный удар от руководителя семинара (я все эти дни маниакально боялся кого-нибудь подвести), пришлось высасывать из пальца уже окончательную ахинею: будто после заседания Борис Натанович отвел меня в сторонку и приватно (оттого и свидетелей нет, так что удостовериться, было сие или не было, невозможно; хотите — верьте, хотите — проверьте) поведал, будто я, сам того не желая, написал двойственную вещь, которая может быть ПРИ ЖЕЛАНИИ истолкована как идеологически вредная; поэтому он посоветовал мне повесть кардинально переработать, но в связи с работой над диссертацией у меня до литературных пустяков просто руки пока не дошли…