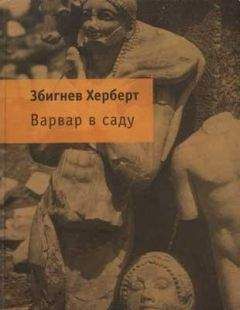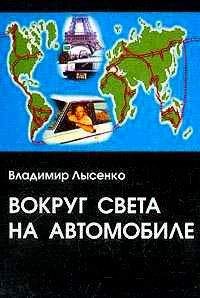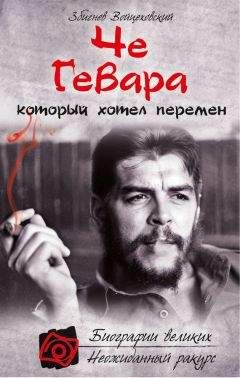Збигнев Херберт - Натюрморт с удилами
Действительно, Терборх производит впечатление художника самобытного, не имеющего предшественников, не подверженного внешним влияниям или развитию, поэтому он легко узнаваем. Но так ли это на самом деле? По крайней мере два его полотна не дают мне покоя. Первое — «Семья точильщика» в берлинском музее Далем.
В глубине двора мрачный сарай, кое-как слепленный из досок, — мастерская ремесленника, склонившегося над шлифовальным кругом, ожидающего клиента. С правой стороны нечто, что когда-то могло быть домом, однако время превратило его в одноэтажное кирпичное строение с осыпающейся штукатуркой. Три темных отверстия показывают, где находились окна и двери. Мать, ищущая в голове у ребенка, поверхность двора, вымощенная булыжником, перевернутый стул, разбросанные в беспорядке инструменты. Все вместе взятое — образец заброшенности, разложения, нужды. С какой неистовой тщательностью этот художник элегантности и синтеза прослеживает все отталкивающие подробности, невыносимые детали! Так писали сторонники натурализма в середине XIX века, стараясь пробудить сочувствие к тяжкой доле городского пролетариата. Но каким образом попал в этот уголок нужды блестящий советник Терборх?
«Процессию флагеллантов» из роттердамского музея Бойманса ван Бёйнингена я без колебания принял за ошибку рассеянного хранителя, который повесил испанского художника среди голландцев. «Процессия» — это сцена, составленная из острых, резких светотеневых контрастов. Настроение страха, таинственности колеблется в ней между душераздирающим криком и гробовым молчанием. Свет, создаваемый горящими факелами, образует посреди густого, почти телесного сумрака блестящие лужицы. Слева что-то вроде алтаря или трибуны. Посередине три экзорциста в белых одеяниях и белых конусообразных колпаках, напоминающие хищных зверей, взятых из атласа кошмарных призраков. И наконец, мы видим привязанного к ограде или стене человека с распростертыми руками, обнаженного по пояс, на которого через минуту посыплется град ударов бичом.
Когда впоследствии я много раз рассматривал эту картину, то неизменно думал: это ведь Гойя, и никто другой. Это его тема, его характер живописи, его порыв и жестокость. Каким чудом гениального испанца опередил на полтора века художник северной страны, где искусством управляли иные вкусы и традиции? Воспоминания о путешествиях в молодости? Возможно, и так, но это не объясняет сходства и даже идентичности стиля. Урок смирения. Всех секретов воображения нам не открыть.
В музее Маурицхейс висит автопортрет мастера — большая, немного непропорциональная голова; лицо, пожалуй, обыкновенное: толстый нос, алчные губы и быстрые глаза, глядящие на нас с нескрываемой иронией. Они как бы говорят нам: да, я хорошо знаю мир убожества и уродства, но я изображал лишь кожу, блестящую поверхность, видимость вещей: дам в шелках, господ в безукоризненно черных одеяниях. Меня удивляло, как яростно сражались они за самую малость — жизнь более долгую, чем была написана им на роду. Они защищались от смерти с помощью моды: портновских выдумок, причудливых жабо, вычурных манжет, фалд и складок, каждой подробности, которая позволила бы им просуществовать немного дольше, прежде чем их и нас с вами поглотит черный фон.
Натюрморт с удилами
Юзефу Чапскаму
Car Je est un autre[19].
Артюр РембоНачалось это так: много лет назад, во время моего первого визита в амстердамский Королевский музей (Рейксмузеум), когда я проходил через зал, где находилась прекрасная «Супружеская пара» Хальса и чудесная «Свадьба» Дейстера{69}, я наткнулся на картину неизвестного мне художника.
Я сразу понял, хотя трудно было бы найти этому рациональное объяснение, что произошло нечто важное, существенное, нечто гораздо большее, чем случайная встреча в толпе шедевров. Как описать это внутреннее состояние? Внезапно пробудившееся острое любопытство, напряженное внимание, органы чувств, приведенные в состояние тревоги; надежда на приключение, готовность к озарению. Я испытал почти физическое ощущение, как будто кто-то позвал меня по имени, обратился ко мне с призывом. Картина запечатлелась в памяти на долгие годы — выразительная, неотвязная, — а ведь это было не изображение лица с горящим взглядом и никакая не драматическая сцена, а спокойный, статичный натюрморт.
Вот перечень изображенных на картине предметов: справа пузатый кувшин из обожженной глины насыщенного теплого коричневого цвета; посредине массивный стеклянный бокал, называемый рёмер, до половины чем-то наполненный; с левой стороны серебряно-серый оловянный чайник с крышкой и носиком. И еще на полке с этой посудой две фаянсовые трубки и листок бумаги с нотами и текстом. А сверху — металлический предмет, который я не сумел сразу опознать. Но самым интересным был фон. Черный фон, глубокий как пропасть и в то же время плоский как зеркало, доступный осязанию и теряющийся в перспективе бесконечности. Прозрачный покров бездны.
Я записал тогда фамилию художника — Торрентиус. Позже занялся поисками в разных книгах по истории искусства, энциклопедиях и словарях с именами художников более подробной информации. Однако словари и энциклопедии молчали либо содержали только упоминания о нем, невнятные и сбивающие с толку. Казалось, Торрентиус был лишь гипотезой ученых, а в действительности не существовал никогда.
Когда я добрался наконец до первоисточников и документов, перед моими глазами предстала удивительная жизнь этого художника: жизнь бурная, необычная, полная драматизма, совершенно непохожая на заурядные биографии его товарищей по цеху. Для тех немногочисленных авторов, которые о нем писали, он был существом загадочным, вызывающим беспокойство, а его стремительная карьера и трагическая кончина не укладывались ни в один из логичных и общепринятых образцов, но представляли собой запутанный узел множества сюжетов — художественных, общественных, бытовых и в конце — как представляется — политических.
Его обыкновенное мещанское имя было Йоханнес Сеймонсзоон ван де Беек. Латинское же прозвище происходит от слова torrens, что в роли прилагательного означает «горячий, раскаленный», а в форме существительного — «дикий бурлящий поток». Две противоположные, антагонистические стихии огня и воды. Если в псевдониме можно указать свою судьбу, то Торрентиус сделал это с пророческой интуицией.
Родился он в Амстердаме в 1589 году. Мы не знаем, кто был его учителем, зато известно, что с самого начала своей художественной карьеры Торрентиус был мастером блестящим, славным, богатым. Его натюрморты имели огромный успех. «По моему мнению, — пишет в своих заметках о живописи Константейн Хёйгенс{70}, — в передаче мертвой натуры он настоящий чародей».
Орфей натюрморта. Его окружал ореол таинственности, и о том, что происходило в его мастерской, ходили легенды, повторялись рассказы о сверхъестественных силах, которые он впрягал в свое ремесло. Торрентиус, видимо, считал (и в этом смысле он отличался от своих скромных собратьев из гильдии святого Луки), что некоторая доза шарлатанства не вредит, а, наоборот, помогает искусству. Он утверждал, например, что он, собственно, не рисует, а только кладет на полу краски возле полотен, и они сами, под влиянием музыкальных звуков, укладываются в цветную гармонию. Но разве искусство, любое искусство, не является разновидностью алхимической трансмутации? Из пигментов, растворенных в масле, возникают более жизненные, чем в жизни, цветы, города, морские заливы, райские пейзажи.
«Что же касается образа жизни и обычаев этого человека, — добавляет как бы нехотя Хёйгенс, — то я не хотел бы выступать в тоге римского судьи». Воистину достойная похвалы скромность, потому что именно эту тему обсуждали повсеместно, говорили много и с остервенением. Торрентиус был красив, одевался с изысканной элегантностью, жил на широкую ногу, у него были лакей и верховая лошадь. Более того, он окружил себя толпой друзей и поклонников, вместе с которыми, наподобие Диониса во главе ватага сатиров, переходил из города в город, устраивая шумные и не вполне приличные пирушки в трактирах, корчмах и публичных домах. За ним следовала слава возмутителя спокойствия и развратника, росло количество жалоб и слез соблазненных им женщин, а также неоплаченных счетов. В одной только лейденской корчме «Под радугой» его долг за выпивку и закуску достиг нешуточной суммы в 484 флорина. Одни деликатно называли его эпикурейцем, другие не жалели суровых слов осуждения: «In summa seductor civium, impostor populi, corruptor iuventutis, stupator feminarum»[20].
И как будто этого было недостаточно, Торрентиус имел еще сократовскую жилку: ему ужасно нравилось вести дискуссии на религиозные темы. Он был интеллигентен, начитан, остроумен и не пропускал ни единого случая, чтобы не скрутить в бараний рог встреченного пастора или студента теологии. Трудно сказать, какие религиозные взгляды он проповедовал. Вероятно, дискуссии сводились к демонстрации мастерства в области диалектики, а их движущей силой было чистое удовольствие дурачить ближних.