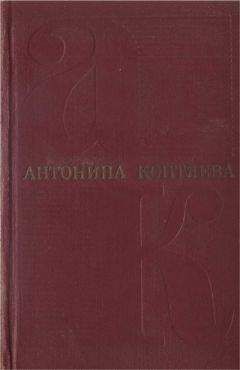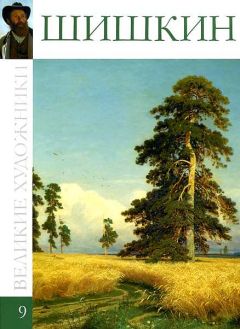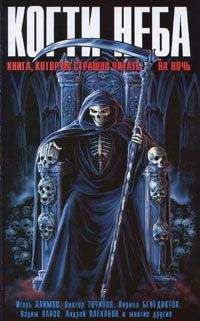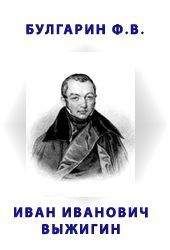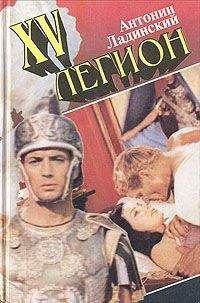Борис Рощин - Встречи
Пришел я к Ивану Дмитриевичу домой, он в комнатушке удочку для рыбалки настраивает. Сразу предупредил Ивана Дмитриевича, что фотографировать его намерений не имею, и попросил рассказать об Анне Максимовне Карениной и о своем фронтовом периоде жизни.
Из рассказа Ивана Дмитриевича ничего нового для себя об Анне Максимовне почти не узнал. Разве то, что встретились они потом еще раз, но уже в госпитале, где валялся он после второго ранения (разрывная пуля в позвоночник попала) одиннадцать месяцев. Из госпитального их периода знакомства Ивану Дмитриевичу особенно запомнилась одна неприглядная история, которая в дальнейшем, возможно, повлияла как-то на его выбор профессии. Медсестру Каренину обворовали.
— Очень задела меня та история, — неторопливо рассказывал Иван Дмитриевич, — все вещички девчонки подчистую загребли, в одном платье осталась да белый халат еще. Кроме наших, думаю, некому. В лепешку разобьюсь, а найду подлеца. Передвигался я тогда только на костылях, да и то с трудом, но следствие повел энергично, Узнал, с кем она была в тот вечер, кто знал из госпитальных, что вечером ее не будет дома (она рядом с госпиталем жила), прикинул так и эдак, присмотрелся к тем, у кого деньги вдруг появились, и нашел вора. Им оказался ходячий из соседней палаты. Когда я его фактами прижал, он и отпираться не стал. Все вернул из вещей, кроме юбки, которую пропить успел.
Потом у нас в госпитале еще один случай воровства произошел, продовольственный склад обворовали. Меня уже как «специалиста» пригласили это дело обмозговать. Посмотрел, что к чему, прикинул, поразмышлял над фактами и говорю: кроме заведующего складом некому. И точно. Сам заведующий и оказался вором.
Те два следственные дела, видать, и пробудили во мне настрой на юридическую науку. После снятия блокады с Ленинграда вернулся я домой, в Ораниенбаум, инвалидом второй группы. До войны на заводе слесарем работал, а после ранения никакой физической работы нельзя до сих пор. Кусок разрывной и сейчас в хребте сидит. Вот удочку шевелю — и то спина мокрая. Поначалу пристроили меня на комсомольскую работу, потом юридическую школу закончил, потом заочно университет. С пятьдесят второго года в Луге работаю. Прокурором города был, потом судьей…
Слушаю я Ивана Дмитриевича, записываю его рассказ в блокнот, но не то мне хочется услышать. Не сухомятину эту — где учился, кем работал, а поострее что-нибудь, поувлекательнее. Попросил рассказать про самые памятные боевые эпизоды.
— Про боевые так про боевые, — Иван Дмитриевич соглашается. — Только лично я рассказы подобные слушать и читать не люблю. Особенно сейчас, когда о подвигах своих распространяются спустя столько лет после войны.
— Вы расскажите не о подвигах, а о ранениях и как ту или другую награду получили, — подсказываю я. — Только обязательно с подробностями, детально.
Достал Иван Дмитриевич, точь-в-точь как Анна Максимовна, из стола коробочку красную, бумаги на столе разложил и говорит:
— Вот тут все. И наград-то у меня фронтовых две: медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Остальные не в счет. Медаль я после первого ранения получил, орден — после второго.
— Что за граната у вас была под животом с выдернутой чекой, про которую Анна Максимовна упоминала?
— Не было у меня гранаты с выдернутой чекой, — Иван Дмитриевич усмехнулся, — запамятовала Анна. Была граната РГД, в ней чеки нет. Я тогда старшим сержантом был, командиром взвода. Наша рота отход прикрывала. Немцы из орудий прямой наводкой бьют, потери несем большие, стали отходить. Командира роты на высотке убило, а мне необходимо у него документы забрать, сумку с картой и пистолет — так полагалось. До высотки втроем добрались, два солдата еще со мной. Забрал я у мертвого командира все, что положено, назад побежали. Ремни у нас поначалу белые были, брезентовые, черт бы их брал! Эти ремни нас тогда больше всего злили. Бежишь, а ремень словно подсказывает немцу: целься под ремень.
— Вот, вот, Иван Дмитриевич, — обрадовался я, — очень хорошая деталь. Еще подробнее, пожалуйста.
— Куда подробнее. Тех двоих, что со мной были, сразу положили, а я петлял. Бегу, лицо и голову лопаткой саперной прикрываю, а вокруг словно крупный град сыплет. Потом взрыв. Очнулся, поднял голову — никого. Только слышу в леске голоса чужие. А у нас приказ был: в плен не сдаваться. Да и не станут немцы возиться с раненым. Прошьют очередью, и все дела. Вот тогда я РГД под живот и приспособил, а немцы меня стороной обошли. Да, вот вам деталь: стали мой вещмешок разбирать, а он весь, как сито, пулями изрешечен. Клубок парашютных ниток у меня в мешке был — измочален, как вата. Ложе у винтовки вдрызг разбито, в каске дырка, в котелке и кружке — дырки, а сам жив.
Подлечили меня, медаль «За отвагу» дали, младшего лейтенанта присвоили и вновь командиром пехотного взвода на Ленинградский фронт. Там-то мне и не повезло… Бросили мой взвод, усиленный пэтээрами (противотанковые ружья), в разведку боем. Представляете, что это такое?
Честно говоря, разведку боем я представлял смутно, в чем и признался Ивану Дмитриевичу.
— Есть такая жестокая арифметика на войне, — продолжал Иван Дмитриевич, — несколько десятков положить, чтобы там сотни и тысячи не легли. Короче: весь огонь на себя, чтобы наши огневые точки противника выявить и засечь могли. Вот мне со взводом и выпала эта судьба. Помню, мимо дотов ползли, на минное поле противопехотное нарвались. Из дотов пулеметы бьют, а вокруг нас мины натяжного действия. Чуть шевельнулся, проволоку в траве задел — взрыв. Кто-то корягу выворотил из земли, веревку к ней привязали. Бросим вперед как «кошку», подтянем, мины рвутся. Кто живой, в проход ползет, вновь «кошку» бросаем… До сих пор не знаю, остался ли кто из моих пятидесяти человек в живых. Минное поле проползли, поднялся я — разрывная в спину. Вынес меня на себе — фамилию его хорошо запомнил — пэтээровец Кулагин. Еще с одним раненым на опушке нас положил, а сам — вперед, задачу надо выполнять. Остальное смутно помню. Потом выяснилось, что мы не разведку боем вели, а бросили нас для отвлечения главного удара. Когда наши подошли и меня уже в «лодке» тащили, запомнился мне наш горящий танк «КВ». Танкисту ноги заклинило, и он выбраться не мог. Кричал, а чем поможешь…
На том для меня война закончилась. Одиннадцать месяцев по госпиталям валялся, вот эту Красную Звезду на память получил… Об остальном вроде рассказывал…
Из дома Ивана Дмитриевича Гринева вышел я уже поздно. Материала я собрал немало, но произведение мое не должно было превышать двести строк.
Находясь под свежим впечатлением от встреч с Анной Максимовной и Иваном Дмитриевичем, создал я «Анну Каренину» (так и назвал зарисовку) за одну ночь. В нормативные двести строк уложиться не удалось, получилось триста шестьдесят. Что-либо сокращать в этом материале было, на мой взгляд, просто уже немыслимо. Выверено было каждое слово, каждая запятая, и убери их — терялся смысл всего повествования, исчезали характеры, живые люди. Втайне я надеялся, что ответственный секретарь оценит по достоинству мое произведение и даст ему в газете «зеленую улицу» без сокращений. Получилось, однако, иначе. Полистал секретарь мою «Анну Каренину», говорит:
— Прекрасно, старик, прекрасно сделано! А какие детали! Подобного я и у Симонова не встречал; таких деталей военного быта ни у Василя Быкова не нахожу, ни у Бондарева. Но, понимаешь, из сельхозуправлепия сводку по сенажу принесли, надо давать. Так что и двухсот строк тебе выделить не могу, не то что триста шестьдесят. Наполовину сокращай.
Здесь надо обязательно несколько слов о нашем ответственном секретаре сказать, об Иване Осиповиче. Он не только моим непосредственным начальником является, но и, если можно так выразиться, журналистским наставником. Лицо у него нефотогеничное, рост маленький, по натуре он неуживчивый, ершистый, любит коллегам шпильки, подначки отпускать, и потому многие его у нас недолюбливают. Особенно тем от Ивана Осиповича достается, кто, выражаясь военной терминологией, в журналистике о маршальском жезле не мечтает, для кого газетная работа — обычное повседневное дело, кого больше интересует гонорар, нежели творческое начало. С Иваном Осиповичем я не всегда бываю согласен, особенно с категоричностью его, максимализмом, но чем-то он мне нравится. Прежде всего тем, наверное, что познания в своем деле имеет большие, что читать любит и все деньги, какие имеет, на книги тратит. Дома у него все книгами забито, в основном по искусству (Иван Осипович диссертацию о творчестве одного забытого художника написал, но пока защитить ее не может), из мебели — один обшарпанный диван. Жена ему с каждой получки скандал закатывает (ее и понять можно — семью кормить надо), а Иван Осипович, бывает, всю получку на какой-нибудь старый журнал ухлопает. Зато в одежде, еде и прочем житейско-бытовом Иван Осипович человек неприхотливый. Черный костюм и штиблеты (ботинки свои он штиблетами зовет) ответственный секретарь носит столько лет, сколько с ним работаем. В стоптанных штиблетах его разноцветные шнурки от газетных подшивок. Не знаю, кто ему дома шнурки из штиблет вытаскивает, может быть, дочка или щенок, только частенько потрошит он старые газетные подшивки, а шнурки, которыми они скреплены, в свои штиблеты вдевает. Когда же тетя Оля, уборщица, ему замечание за разноцветные шнурки делает, Иван Осипович отвечает, что это те мелочи жизни, на которые не следует обращать внимания.