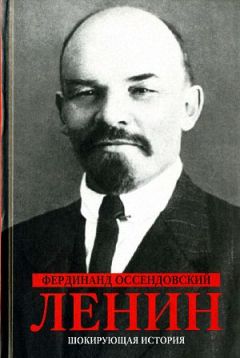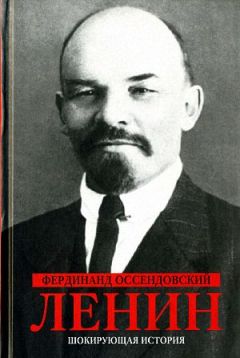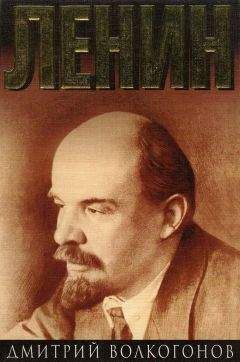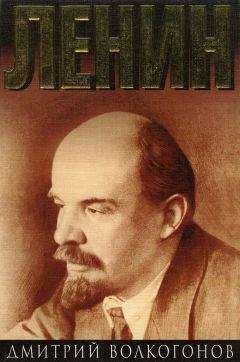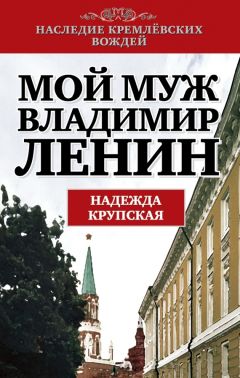Жорес Трофимов - Волкогоновский Ленин (критический анализ книги Д. Волкогонова “Ленин”)
Я тогда же расценил это утверждение как злобную ан- тиленинскую утку, ибо знал, что такого документа нет в архивах, как не происходили в жизни и еженедельные расстрелы служителей культа. В этом я окончательно убедился, прочитав во 2-м томе сборника “Ленин” подглавку “Ленин и церковь”: там и в помине нет такого “документа”... Как нет и волкогоновского извинения за свое громогласное и преступное вранье. Зато каждая страница под- главки усеяна досужими домыслами и вымыслами о Владимире Ильиче, вроде: “Он сам поразительно легко, без видимых мучений, сомнений, переживаний порвал с религией, так никогда и не погрузившись в ее лоно. Ранние увлечения материалистическими учениями сделали его переход от полуверы (в школьные годы) к неверию легким и незаметным”.
Убежден, что Волкогонов не сумеет вразумительно пояснить, что значит “погрузиться в лоно религии”. И нет такого исторического источника, который свидетельствовал бы о том, что у В. Ульянова была “полувера”, от которой он якобы легко и незаметно перешел к неверию. Я, автор книг о гимназических годах Владимира Ильича, твердо уверен, что его разрыв с религией произошел не только после знакомства с материалистическими учениями, но и в результате долгих и мучительных раздумий над окружающей действительностью — о тщетности обращений за помощью к всевышнему людей, угнетенных социальной несправедливостью, нападках церковников на народную школу, руководимую отцом, о пьянстве и поборах, которыми нередко занимались служители культа. Росту неверия способствовали схоластическое преподавание закона божьего в гимназии, заключавшегося в зазубривании сухих и трудных учебников, суровость наказаний, которым директор Ф. М. Керенский подвергал учеников, уклонившихся от посещения богослужений и т. п.
Переход к неверию, вопреки представлениям Дмитрия Антоновича, не был “легким и незаметным” еще и потому, что закон божий и богословие являлись обязательными предметами не только в гимназиях, но и в высших учебных заведениях. Поэтому В. Ульянову довелось сдавать выпускной экзамен по закону божьему в гимназии, изучать в 1887 году богословие в Казанском университете и сдавать испытания по церковному праву в Петербургском университете в 1891 году.
Еще один пример легковесных суждений автора. Он утверждает, что Владимир Ильич в своей жизни “имел достаточно близкие связи с одним священником... — Георгием Гапоном”.
Да, действительно, в начале первой русской революции Владимир Ильич получил от Гапона “Открытое письмо к социалистическим партиям России” с призывом немедленно войти в соглашение между собой и приступить к подготовке вооруженного восстания против царизма, а также “Воззвание Георгия Гапона к Петербургским рабочим и ко всему российскому пролетариату”. Присутствовал и на конференции российских социалистических организаций, созванной Г. Гапоном 20 марта 1905 года в Женеве, но, убедившись, что конференция является “игрушкой в руках с.-р. (эсеров. — Ж. Т.)” и что рабочие партии на нее не приглашены, Владимир Ильич покинул конференцию. Эти и некоторые другие факты говорят лишь о том, что Гапон неоднократно обращался к Ленину, но тот не имел каких-то “близких связей” с ним и избегал встреч.
В завершение разговора о погружении в “лоно церкви” замечу, что Владимир Ильич и в юности, и в зрелые годы никогда не позволял себе подтрунивать или насмехаться над чувствами верующих и старался соблюдать все правила приличия по отношению к установленным законом религиозным обрядам. Так, находясь в ссылке в деревне Кокушкино Казанской губернии, он в 1888 году, по просьбе крестьянской семьи, присутствовал в церкви в качестве восприемника их дочери. Обязанности “крестного отца” он выполнял и позже, когда находился под гласным полицейским надзором в Самарской губернии.
“Известный историк” полагает, что “Ленин не оставил глубоких трактатов о месте и роли религии в человеческом обществе” и ограничился “пропагандистскими памфлетами “Социализм и религия”, “О значении воинствующего материализма”, некоторыми партийными указаниями в программных документах”. Если бы автор с большей ответственностью относился к тому, что он пишет, то должен был бы упомянуть хотя бы книгу “Материализм и эмпириокритицизм” Ленина и его статьи о Л. Толстом и толстовщине, о богостроителях и богоискателях, “Об отношении рабочей партии к религии”.
Еще большему диву даешься, когда Дмитрий Антонович излагает “взгляды” Ленина на религию. Не уважая свои докторские звания и читателей, он заявляет, что Владимир Ильич якобы не признавал свободу веры, ибо видел в религии “один из видов духовного гнета”, и без обиняков повторял классический марксистский тезис: “Религия есть опиум народа”. Но это тоже явная ложь. Еще в статье “Социализм и религия” (1905 г.) Владимир Ильич выдвигал требование свободы совести в качестве одного из важнейших: “Всякий должен быть совершенно свободен исповедывать какую угодно религию или не признавать никакой религии, т. е. быть атеистом...”. Этот политический лозунг был воплощен в декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР об отделении церкви от государства и школы от церкви, опубликованном в печати 26 января 1918 года, и обеспечил всем гражданам свободу совести.
Декрет не содержал ничего дискриминационного по отношению к православной церкви, но поместный Собор 1917—1918 годов, вслед за патриархом Тихоном, призвал верующих всячески противодействовать правительственному декрету. И уж сугубо политические цели преследовал сам патриарх, осудив заключение Совнаркомом Брестского мира. Только осенью 1919 года вышло его послание к духовенству с указанием “уклоняться от участия в политических партиях и выступлениях, “повиноваться начальству в делах мирских”.
Волкогонов совершенно не затрагивает отношения Советской власти с церковью в 1917—1920 годах и перескакивает к голоду 1921—1922 годов, когда требовалась немедленная помощь миллионам голодающих Поволжья и других районов страны.
Среди трудящихся и низшего духовенства возникло движение за изъятие части церковных ценностей, накопленных трудом многих поколений и являвшихся фактически достоянием народа. Учитывая эти пожелания летом 1921 года, патриарх Тихон (на этот пост, упраздненный Петром I, он был избран Собором 5 ноября 1917 года) разрешил верующим использовать часть храмовых “драгоценных вещей” на помощь голодающим.
Однако дарение этих ценностей шло вяло. Запад предлагал зерно только за золото, а голод зимой принял катастрофические размеры, и движение за пожертвование храмовых драгоценностей резко возросло. Вот как выглядело в связи с этим воззвание протоиерея симбирской Троицкой церкви А. Гневушева, появившееся 4 февраля 1922 года в газете губисполкома “Экономический путь”.
Напомнив, что советская власть оказывает помощь голодающим Поволжья, протоиерей заявил, что она “не может исчерпать до дна безмерно-глубокую чашу свалившегося на нас бедствия. Между тем в монастырях и храмах Божиих имеется не малое скопление золота и драгоценных камней, которые можно было бы употребить на богоугодное дело, спасение гибнущих от голода. Святители наши, заступники и печальники за нас пред Престолом Всевышнего не нуждаются в золоте и драгоценных украшениях, в изобилии хранящихся в наших церквах. Поднимите свой голос, о благочестивые прихожане, во имя изъятия и употребления их на дело питания голодающих”.
Учитывая голос народа, патриарх Тихон 6 февраля 1922 года обратился с новым воззванием к верующим, в котором допускал “возможность духовенству и приходским советам с согласия общин верующих, на попечении которых находится храмовое имущество, использовать находящиеся во многих храмах драгоценные вещи, не имеющие богослужебного употребления (подвески в виде колец, цепей, браслеты, ожерелья и другие предметы, жертвуемые для украшения святых икон, золотой и серебряный лом) на помощь голодающим”.
С учетом этого послания ВЦИК 23 февраля издал декрет, предлагавший местным Советам в месячный срок изъять из “церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий по описям и договорам, изъятие которых не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать их в органы Наркомфина в специально назначенный фонд Центральной комиссии помощи голодающим” (Известия, 1922, 26 февраля).
Текст декрета согласовывался с представителями патриарха, но когда начался процесс изъятия части церковных драгоценностей, он разослал 28 февраля конфиденциальное воззвание, которое вело к конфронтации с властями: “Мы не можем одобрить изъятие из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами вселенской церкви и карается ею как святотатство, мирянин — отлучением от нее, священнослужитель — извержением от сана”. Это было какое-то недоразумение, ибо декрет ВЦИКа и не предусматривал изъятия ценностей, которые были необходимы “самому культу”, и местные советы продолжили сбор драгоценностей в храмах.