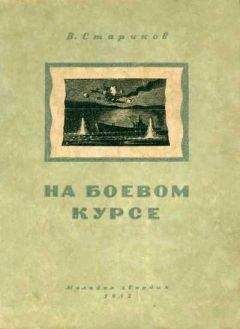Дмитрий Мережковский - О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы
Достоевский, Гончаров, Толстой действуют целыми массами, громадными размерами своего художественного полотна, всею площадью поэтического кругозора. Гаршин, напротив, до последних пределов суживает и ограничивает поле своих действий. Он дает minimum образов и впечатлений, экстракт из обширного материала, которого хватило бы другому на целый роман. Он не расширяет своей идеи, своего чувства до сложной человеческой драмы, он упрощает и сосредоточивает их в один художественный образ. Действие такой сосредоточенной лирической силы ограниченнее, но глубже, чем действие эпоса. Подобное произведение входит в сердце читателя, как острие. Оно гнется, кажется слабым и хрупким. Но поэту и не нужно подавляющей силы. Дело в том, что на самом конце острия есть у него капля смертельного яда. Это – яд мысли, яд того неразрешимого сомнения, которое довело Гаршина до безумия. И ему достаточно слабого, почти нежного укола, чтобы яд вошел в кровь и отравил самого читателя.
Таких лириков мало интересуют индивидуальные особенности человеческих характеров. Гаршин иногда совсем покидает людей. В чудной поэме «Attalea princeps» героиня – роскошная пальма. Ей хочется на волю из-под стекла оранжереи. Но слишком нежное растение юга не выдерживает нашей суровой северной свободы. В каждом слове рассказа вы чувствуете тот же возвышенный символизм, как в последних произведениях Тургенева. Реальная действительность для Гаршина – холод, который губит «Attalea princeps». Он сам похож на это грациозное, слишком нежное растение, созданное не для нашего беспощадного неба. Борьба гибких зеленых листьев с железом, безнадежная и неутолимая жажда свободы – все это символ трагической судьбы самого поэта. Такая же лирическая поэма в прозе – «Красный цветок». Никто еще не описывал сумасшествия с более ужасающим реализмом. Гаршин всей своей жизнью заплатил за страшный психиатрический опыт.
Зло мира заключено для безумца в этом таинственном символе крови, невинно проливаемой, в Красном цветке. Кто дерзнет сорвать его, уничтожит зло на земле, но сам погибнет. Сумасшедший герой приносит великую и бесполезную жертву, срывает цветок и умирает за людей. Как жажда свободы в «Attalea princeps», здесь великое самопожертвование любви приводит к прекрасной, но никому не нужной смерти безумца. С какой нежностью и скорбью поэт развенчивает идеал любви, идеал свободы!
Сердце Гаршина, как сердце этого безумного подвижника, жаждет неутолимо чудесного, жаждет Бога. Но не даром он написал гимн хотя бы недостижимой Свободе в «Attalea princeps». Его мысль, его миросозерцание вышли целиком из отрицания, из великого освободительного движения шестидесятых годов. Утилитарная теория земного счастья, земной свободы не удовлетворяла религиозной потребности его сердца. Он сделал все, чтобы убить эту глухую потребность, боролся с ней до последней капли крови, но не победил. Поэт, имевший несчастье родиться в эпоху и в стране, где отрицание сделалось синонимом умственной независимости, был создан для веры, и только вера в бесконечный идеал могла спасти его. Но мистическое чувство, как почти все люди его поколения, он считал трусливым отступничеством, рабством, возвращением к старым цепям. Роковая ошибка! Его душа, слабая и женственная, не вынесла этого мучительного раздвоения. Трагическое противоречие XIX века, которое мы уже видели в Толстом и Достоевском, – потребность верить, невозможность верить, – в Гаршине доходит до последней крайности, до пределов безумия.
Незадолго перед смертью он прочел рассказ Чехова «Степь» и с радостью приветствовал новый талант. Он искренно восторгался его непосредственным чувством природы, здоровьем, спокойною любовью к жизни, уверял, что «Степь» как будто исцелила и на минуту заставила его позабыть страдания.
В самом деле, Гаршин глубже, чем кто-либо, по закону психологической противоположности должен был почувствовать силу Чехова. Трудно найти больший контраст художественных темпераментов.
Гаршин не интересуется людьми и мало знает их. Чехов любит и знает людей. Гаршин погружен в себя, сосредоточен в одном неразрешимом вопросе о правде, о жизни и смерти; Чехов – с беспечностью художника отдается многозвучным, разнообразным впечатлениям природы и жизни; Гаршин, как Достоевский, – поэт Петербурга, он вышел из душной комнатной атмосферы, он жаждет и боится, как «Attalea princeps», вольного воздуха, он далек от природы; для Чехова природа – источник всей его силы, крепости и здоровья, он – не петербургский. Автор «Степи» – из глубины России. Гаршин почти исключительно рисует один характер раздвоенного и болезненного современного человека. Чехов лучше всего умеет изображать людей простых, непосредственных, мало думающих и глубоко чувствующих; Гаршин сам болен; у Чехова избыток даже слишком крепкого, может быть, к несчастию для него, несколько равнодушного здоровья. Благодаря своему здоровью он мало восприимчив ко многим вопросам и течениям современной жизни.
И, несмотря на эту полную противоположность темпераментов, вы сразу чувствуете, что Гаршин и Чехов – дети одного поколения.
Чехов, подобно Гаршину, откидывает все лишнее, всю беллетристическую шелуху, любезную критикам, возобновляет благородный лаконизм, пленительную простоту и краткость, которые делают прозу сжатой, как стихи. От тяжеловесных бытовых и этнографических очерков, от деловых бумаг позитивного романа он возвращается к форме идеального искусства, не к субъективно-лирической, как у Гаршина, а маленькой эпической поэме в прозе.
Некоторые люди как будто рождаются путешественниками. У Чехова есть эта жадность к новым впечатлениям, любопытство путешественников. Ум его трезвый и спокойный, может быть, для современного поэта даже слишком трезвый и спокойный. Но его спасает художественная чувствительность, неисчерпаемая, очаровательная, как у женщин и детей, и (к счастью для слишком здорового, равнодушного художника) можно сказать, болезненно утонченная. Он замечает неуловимое. На нервах поэта отзывается каждый трепет жизни, как малейшее прикосновение – на листьях нежного растения. И эта жадная впечатлительность вечно стремится к новому и неиспытанному, ищет никем не слышанных звуков, не виданных оттенков в самой будничной знакомой действительности. Чехову, как и Гаршину, не надо обширного полотна картины. В мимолетных настроениях, в микроскопических уголках, в атомах жизни поэт открывает целые миры, никем еще не исследованные. Ум художника спокоен, но нервы его так же чувствительны, как слишком напряженные струны, которые, при малейшем дуновении, издают слабый и пленительный звук.
Иногда взбираешься по скучной петербургской лестнице куда-нибудь на пятый этаж: чувствуешь себя раздраженным уродливыми и глупыми житейскими мелочами. И вдруг, на повороте, из приотворенных дверей чужой квартиры донесутся звуки фортепьяно. И Бог знает, почему именно в это мгновение, как никогда прежде, волны музыки сразу охватят душу. Все кругом озаряется как будто сильным и неожиданным светом, и понимаешь, что никаких, в сущности, огорчений, никаких житейских забот нет и не было, что все это призрак, а есть только одно в мире важное и необходимое, то, о чем случайно напомнили эти волны музыки, то, что во всякое мгновение может так легко и неожиданно освободить человеческое сердце от бремени жизни.
Так действуют маленькие поэмы Чехова. Поэтический порыв мгновенно налетает, охватывает душу, вырывает ее из жизни и так же мгновенно уносится. В неожиданности заключительного аккорда, в краткости – вся тайна не определимого никакими словами музыкального очарования. Читатель не успел опомниться. Он не может сказать, какая тут идея, насколько полезно или вредно это чувство. Но в душе остается свежесть. Словно в комнату внесли букет живых цветов, или только что вы видели улыбку на милом женском лице…
Этим разрушением условной беллетристической формы повести или романа, этой обнаженной простотой и сжатостью прозы, напоминающей стихи, любопытством к неизведанным впечатлениям, жадностью к новой красоте Чехов примыкает к современному поколению художников. Мы видели, что Гаршин действует символами. Чехов – один из верных последователей великого учителя Тургенева на пути к новому грядущему идеализму – он так же, как Тургенев, импрессионист.[3] К тому же течению примыкает и современная стихотворная поэзия, из многих талантливых представителей которой я возьму, как наиболее характерных для моего исследования, К. М. Фофанова и Н. М. Минского.
На одной из художественных выставок я наблюдал с удовольствием крайнее недоумение рассудительных буржуазных лиц перед одной картиной Репина. Это был портрет Фофанова. Художник удачно поместил фигуру поэта на легком дымчато-лазурном фоне. Фофанов гордо и наивно подымает к своему лирическому небу уродливое и вдохновенное лицо. Какое странное видение – для петербургских чиновников и практических барышень! На устах у многих из них я заметил недоверчивую, даже насмешливую улыбку. А между тем на этом изможденном лице было то, чего нет и никогда не будет на многих цветущих здоровьем, благоразумных лицах. Чувствовалось с первого взгляда, что это «Божьей милостью поэт».