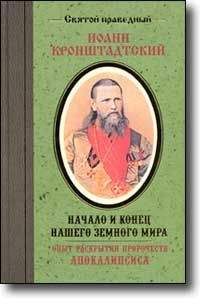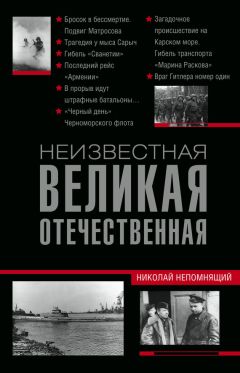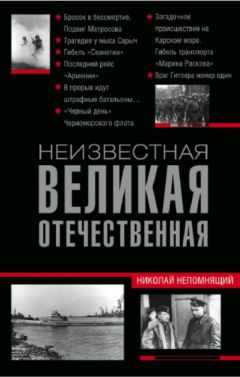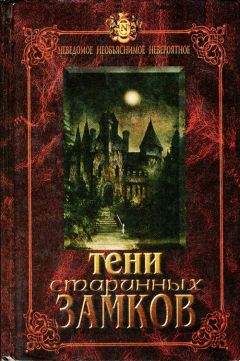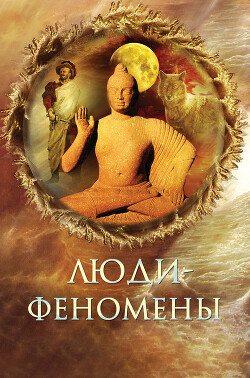Великая книга пророков: Книга 1. Видевшие сквозь время - Непомнящий Николай Николаевич
Не преминул мудрец предсказать и судьбы трех других венценосцев. Во время пребывания Аполлония в греческих Сиракузах одна женщина родила трехголового мертвого уродца. Весь город только и говорил о случившемся. Мудреца попросили истолковать это знамение. И он сказал: «Скоро у римлян будут три самодержца, однако, едва возвысившись, они все погибнут».
История подтверждает это пророчество: императоры Гальба, Вителлий и Оттон продержались на троне каждый по нескольку месяцев, и все трое погибли в результате заговоров и мятежей.
Уходящий в вечность
Говорят, что старость свою Аполлоний Тианский провел на острове Крит. Кончина же его была не менее чудесна, чем рождение. Войдя однажды поздно ночью в храм, который стерегли свирепые собаки, он поманил их к себе, и они завиляли хвостами. Сторожа, увидев это, схватили пророка и связали, собираясь на следующий день объявить о поимке колдуна и грабителя. Однако около полуночи Аполлоний сбросил с себя веревки и быстрым шагом поспешил к дверям святилища, которые сами собой распахнулись перед ним, а едва он вошел — сами захлопнулись. Из храма послышалось пение: «Ввысь от земли, вдаль к небесам, гряди! гряди!» Когда двери святилища вновь открыли, Аполлония Тианского там уже не было…
Но существуют и другие версии ухода Аполлония из земного мира. Согласно одной, он на склоне лет вновь отправился в Индию в обитель Махатм, где и окончил свои дни. Другая свидетельствует, что Аполлоний открыл эликсир бессмертия и с его помощью многократно продлевал себе жизнь. Многие современники жившего в XII в. философа и алхимика Артефиуса были уверены, что именно под его именем скрывался Аполлоний Тианский.
Глашатаи
Многие слышали это древнее и в немалой степени таинственное выражение — «улыбка авгура». В наши дни его ошибочно употребляют, говоря о человеке, своими мистификациями вводящем в заблуждение доверчивых профанов и впоследствии смеющемся над одураченными. На самом деле эта поговорка связана с необычайно распространенной в древности техникой гадания по полету и пению птиц — орнитомантией…
Наши далекие предки, жизнь которых была неотделима от окружающей их природы, хранили непоколебимую уверенность, что все в мире находится в теснейшей взаимосвязи и любое, даже самое незначительное на первый взгляд событие подчинено неким таинственным законам или воле богов, вершащих земные дела.
С особым благоговением древние относились к существам, наделенным даром полета, которого лишен человек. Поэтому птицы и насекомые рассматривались как божественные вестники, посредством которых обитатели горних миров открывают грядущее людям или сообщают им свою волю.
Практика гадания по полету и пению птиц, длительное время существовавшая в виде большого количества отдельных примет, оформилась в единую целостную систему в Этрурии — государстве, находившемся на территории современной Италии. Впоследствии, после падения Этрурии и присоединения ее территории к древнеримской республике, ауспиции (так назывались у этрусков эти гадательные техники) получили статус официального оракула. И на протяжении многих столетий ни одно важное государственное решение в Риме — будь то закладка нового здания, избрание должностного лица, объявление войны или заключение мира — не принималось без совещания с коллегией авгуров, окруженных почетом наравне с высшими сановниками.

Римские авгуры
До наших дней дошло немало практических руководств по ауспициям, на основании которых возможно восстановить эту сложнейшую гадательную систему, превратившуюся после установления христианства в набор бессвязных примет и суеверий. Сама процедура гадания осуществлялась следующим образом. Ровно в полдень авгур, ориентируясь по сторонам света, делил небосвод на 16 частей, каждая из которых была посвящена определенному божеству. Во время гадания жрец стоял лицом по направлению к югу и наблюдал птиц, появлявшихся в поле зрения. При этом область небосвода, находившаяся слева от авгура, т. е. восток, юго-восток и северо-восток, считалась благоприятной, а знамения, наблюдаемые по правую руку от гадающего, т. е. в западной части небосвода, расценивались как дурные. Количество видов птиц, имевших значение для авгуров, было сравнительно невелико; в основном это были птицы, являвшиеся символом того или иного божества или связанные с ним (принадлежавшие ему согласно каким-то мифам) легендами. Эти птицы и рассматривались как вестники и глашатаи небожителей. При наблюдении за некоторыми видами пернатых гадатель обращал внимание только на их полет и поведение; при наблюдении за прочими птицами авгур пытался услышать знамения грядущего в их крике и пении.
Орел, ястреб и сарыч относились к первой категории; ворон, ворона и ночная сова — ко второй. Наиболее значимыми для гадания считались зеленый дятел, посвященный Марсу, и рыбный орел Весты — богини домашнего очага и хранительницы римской государственности.
Само гадание было процедурой необычайно сложной, требующей от авгура наблюдательности и досконального знания священных текстов, содержащих практические сведения по технике ауспиций. Наиболее сложным и ответственным моментом гадания был анализ полученных знамений и разрешение противоречий между ними. Этой довольно несерьезной, с точки зрения современного человека, проблеме были посвящены десятки, если не сотни, объемных исследований, а само умение согласовать противоречивые знамения и выделить среди них преобладающее являлось лучшим показателем квалификации авгура.
При анализе результатов гадания священнослужитель учитывал иерархию значимости, существовавшую между различными священными птицами. Например, знамение, переданное орлом, являлось более важным, чем знамение, сообщенное вороном. Кроме того, следовало принять в расчет время появления каждого из знамений. При этом одни авторы считали наиболее значимым и важным первый знак, появившийся после начала гадательной процедуры, другие же, наоборот, отводили исключительную роль последнему.
Одной из разновидностей орнитомантии, получившей самое широкое признание в эпоху позднего эллинизма (III–I вв. до н. э.), была алектриомантия, что в переводе с древнегреческого означает «гадание с помощью петуха». Вера в силу и достоверность результатов этой предсказательной техники была столь велика, что даже могущественные цари и придерживающиеся материалистических взглядов философы использовали священного петуха, чтобы заглянуть в будущее и узнать тайны рока.
Сам метод прорицания отдаленно напоминал спиритический сеанс. На земле чертился большой круг, вокруг которого изображались буквы и числа. Около каждой буквы клали горсть зерна. Помещенный в центр круга петух, склевывая зерно, переходил в определенной таинственной последовательности от одной буквы к другой, сообщая таким образом прорицателю короткий текст или несколько слов, содержащих ответ на заданный в начале ритуала вопрос.

Римские культовые предметы. Слева направо: жезл авгура; нож; патера; сосуд для жертвоприношений; ковш для возлияний; кропило
Считалось, что предсказание, полученное с помощью этой методики, обладает высшей степенью достоверности, и в пользу этого утверждения приводился следующий довод. Если перед петухом, известным, кстати, своей глупостью, положить на одинаковом расстоянии несколько горстей зерна, то он будет последовательно переходить от одной кучки к другой, склевывая корм. Тот же факт, что во время гадательной церемонии птица переходила от одной кучки пшена к другой в определенном порядке, расценивалось как неопровержимое доказательство вмешательства высших сил, своей волей направлявших петуха от одной буквы к другой, выдавая прорицателю ответ на интересующий его вопрос.