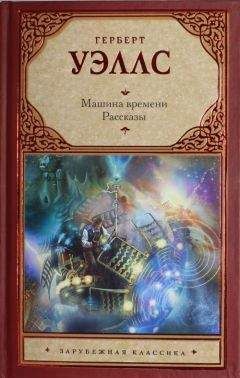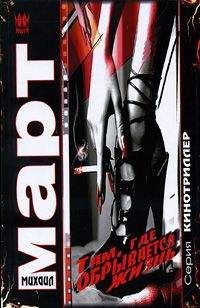Журнал Русская жизнь - Россия - Европа (март 2008)
Однако на другом конце политического спектра можно наблюдать присутствие тех же идей. Когда датская провинциальная газета опубликовала карикатуры на пророка Магомета и исламский мир взорвался возмущением, именно лидер Социалистической народной партии Дании заявил, что извиняться его соотечественникам не за что, а прощения просить должны сами мусульмане за свою нетерпимость.
Буквально в это же время во Франции судили группу африканских мужчин, обвинявшихся в том, что они побили камнями свою соотечественницу, уличенную в супружеской неверности. Адвокат обвиняемых, француженка, придерживающаяся прогрессивных взглядов, настаивала на том, что ее подзащитных надо оправдать, поскольку они просто действовали в соответствии с обычаями своего племени. Если им запретить побивать камнями неверных жен, это будет нарушением принципов политкорректности и мультикультурности, на которых основывается современная европейская демократия.
Что- то явно не сходится.
Надо сказать, что идеи мультикультурности и политкорректности пришли в Европу из Америки, причем там они имели вполне конкретное политическое происхождение. В отличие от европейского общества, развивавшегося как более или менее органическое культурное целое, американские штаты представляли собой конгломерат этнических и религиозных общин, которые должны были сосуществовать по принципу «вы не трогаете нас, мы не трогаем вас». Внутри себя общины могли быть совершенно авторитарны и даже тоталитарны, но во взаимодействии друг с другом тщательно соблюдали демократические процедуры. Больше того, чем тщательнее поддерживались внешние (по отношению к группе) демократические нормы, тем более жестко сохранялся внутренний авторитарный порядок, и наоборот. Культурным продуктом подобного прошлого становится безупречный гражданин, ревниво оберегающий свои политические права и свободы, но совершенно несвободный внутренне. Свобода великолепно уживается с конформизмом.
С другой стороны, классы никогда не были сильны в американском обществе. Деление на классы ощущалось слабее, нежели различия между общинами и культурами. У рабочего движения в США было несколько ярких исторических моментов - в конце XIX века, когда на весь мир именно из Америки распространился праздник Первого мая, в 30-е годы ХХ века. Однако устойчивой пролетарской традиции, как в Германии, Франции или в Англии, здесь не возникло, не было ни рабочей партии, ни социал-демократической идеологии, а марксистская интеллигенция нашла убежище в университетах на кафедрах социологии и антропологии. Тех, кто пытался заниматься политикой, к началу 1950-х годов сенатор Маккарти до смерти напугал обвинениями в «антиамериканской деятельности».
Единственным способом выжить в официальной политике для левых было - слиться с либералами. А лозунги классовой борьбы сменились идеей помощи обиженным и угнетенным меньшинствам. Эти идеи великолепно служили объединению левых и либералов. Если отношение к капитализму и идеи классовой борьбы их разделяют, то желание помочь бедным и отстоять права обиженных их объединяют. Толерантность и сочувствие превращаются в политическую программу.
В таком виде леволиберальная идеология переселилась в Европу к концу 1980-х годов, когда там все острее ощущался кризис «старой левой». В европейском варианте идеи политкорректности совместились с несколько большими дозами социальной риторики, а также приобрели нового оппонента: вопрос о толерантности встал одновременно с резким притоком иммигрантов из стран «третьего мира».
Надо уточнить, что иммиграция и эмиграция были не новы для Европы. Викторианский Лондон был полон выходцами из самых разных стран. Итальянцы переселялись в США, а испанцы и португальцы во Францию и французский Алжир. Когда Алжир обрел независимость и европейское население (отчаянные патриоты, не желавшие жить под властью арабов) побежало во Францию, обнаружилось, что у них почти у всех не французские, а иберийские фамилии.
Однако прежние иммигранты были все-таки европейцами и христианами. В худшем случае евреями. К концу 1970-х - началу 1980-х годов возможности внутриевропейского перераспределения трудовых ресурсов были практически исчерпаны, а волна переселенцев из бывших коммунистических стран еще не хлынула. Демографическая ситуация требовала пополнения рынка труда новыми людьми, а положение в бывших колониях после обретения ими независимости оказалось совершенно катастрофическим. В Западную Европу двинулся поток беженцев, переселенцев и трудовых мигрантов - такой же точно, какой потек в Россию после краха СССР. Эти мигранты порой плохо знали европейские языки и приносили с собой весьма странные и экзотические обычаи. Причем переселялись во Францию из Марокко и Туниса не прекрасно владеющие французским и полностью европеизированные жители крупных городов (им и у себя дома было неплохо), а выходцы из диких деревень, которые даже по-арабски с трудом читали.
Обыватель реагировал на все это с возрастающим раздражением, а либеральная интеллигенция с неистребимым умилением. Обывателя с ходу записали в расисты и фашисты, полностью отдав его в распоряжение ультраправых агитаторов. Прогноз оказался самореализующимся. Чем больше левая и либеральная интеллигенция презирала обывателя, мещанина и «серого человека», видя в нем потенциального фашиста, тем скорее он становился восприимчив к агитации правых. О том, чтобы выслушать благопристойного западного мещанина, рабочего или мелкого служащего с его страхами и заботами, не могло быть и речи. Интеллектуалы были выше этого.
Однако удивительным образом не получили они со своими идеями мультикультурности и политкорректности поддержки и среди масс новых иммигрантов. Значительная часть приезжих мечтала только о том, чтобы ассимилироваться и вписаться в новую жизнь (сохранив, быть может, некоторые милые семейные традиции, но не более того). Уже к середине 1990-х годов обнаружилось, что иммигранты в большинстве своем не жалуются на попытки себя ассимилировать, а, наоборот, недовольны, что власти под влиянием политической корректности отказываются принимать меры для их ассимиляции. Показательно, что во время волнений в иммигрантских пригородах Парижа арабская молодежь, не знавшая ни слова на «родном» языке, жгла не только школы (где ее скверно учили), но и мечети.
Больше того, за сдерживание новых волн иммиграции решительнее всего выступали именно те, кто приехал в западные страны сравнительно недавно. Вопреки пропаганде правых, утверждавших, будто иммигранты отбирают рабочие места у коренного населения, конкурировали они в основном между собой. Каждая новая волна подрывала положение предыдущей, поскольку готова была работать за меньшие деньги и жить в худших условиях. Турки вытеснили в Германии итальянцев, арабы теснили турок, а африканцы арабов. Чем больше масштабы иммиграции, тем хуже положение иммигрантов. Леволиберальные интеллектуалы, призывавшие во имя политической корректности раскрыть пошире ворота европейских стран, вызывали глухое раздражение не только у «белого обывателя», но даже в большей степени у разноплеменной массы «новых европейцев», которых они - не спросив их согласия - взялись защищать.
На многочисленных собраниях левых в Берлине, Париже или Афинах, где мне пришлось побывать, среди публики, восторженно слушавшей ораторов, говоривших о мультикультурности, борьбе с расизмом и поощрении иммиграции, я ни разу не встретил ни одного араба, турка или негра, хотя на демонстрациях, посвященных социальным вопросам, представители новых национальных меньшинств становятся все более заметны.
Между тем к началу двухтысячных годов положение в очередной раз изменилось. Отвергаемые Европой меньшинства, возмущенные тем, что им не дают интегрироваться и ассимилироваться, стали все более восприимчивы к фундаменталистской идеологии. Заметим, что лозунг борьбы цивилизаций придумали все же не арабы и не мусульмане. Однако в общей атмосфере деморализации и предательства левых, роста правых настроений и усиливающегося злобного недоверия «белого» обывателя, в иммигрантских общинах стали расти собственные националистические и традиционалистские тенденции.
Вот тут- то кризис политической корректности проявился с полной силой. Леволиберальные интеллектуалы совершенно не ожидали, что с ультраправыми тенденциями придется столкнуться по обе стороны этнического спектра. Они воспринимали иммигрантские меньшинства как пассивную массу, являющуюся не более чем объектом принудительного покровительства и носителей забавных этнографических особенностей, которых надо защищать и поддерживать в исходном состоянии, так же как гренландских тюленей и певчих птиц. Когда же эти массы сами стали политизироваться, причем, увы, далеко не всегда по удобным и приемлемым для левых и либералов направлениям, это вызвало растерянность и шок.