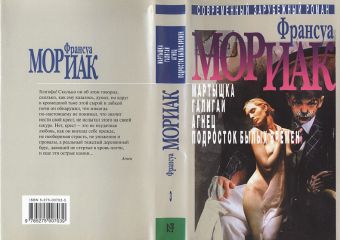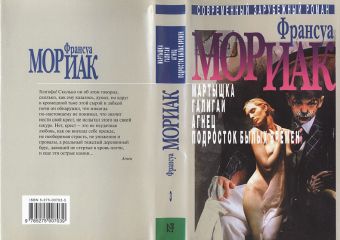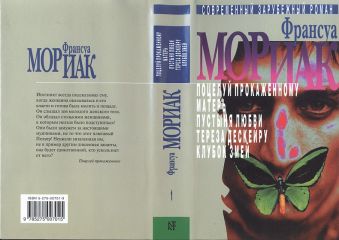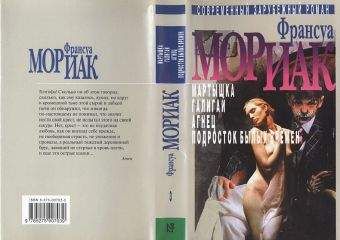Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
Но, освоясь с этим сокровенным, мистическим Бордо, из которого рождается твое творчество, разве можешь ты не страдать, когда тебе приходится сталкиваться с Бордо материальным, с городом из камней и грязи, таким похожим и таким непохожим на город, чей отблеск живет в тебе? В духовном граде, от которого ты взял плоть и кровь свою, все уродливое изгладилось или претворилось в поэзию: город в тебе — это уже произведение искусства; вот почему тот, что продолжает жить вне тебя на берегу грязной реки, ранит тебя и отталкивает. Он словно километровый столб у тебя на дороге, ужасная мета, чтобы измерять пройденный путь. Сколько поколений детей резвилось в Общественном саду и в саду перед мэрией с тех пор, как ты сам уже не ребенок? Не чувствуешь ли ты себя все эфемернее с каждым возвращением на эти скромные мостовые? Время разрушает тебя, но едва касается домов и деревьев в этом сквере. Здесь неодушевленная материя глумится над твоей живой плотью. Для тебя она связана с играми, со слезами школяра, которым ты перестал быть четверть века назад. Все там же стоит скамья, на которой — помнишь? — ты семнадцати лет отроду ждал любимую, а нынче вечером ты опустишься на ту же скамью несчастным стариком, побежденным смертельной усталостью!
IV
Тем, кто никогда не расставался с провинцией, трудно вообразить, как мучительно бывает, возвращаясь, всякий раз встречаться с собственным овеществленным прошлым. Так страдал Пруст, глядя на Булонский лес спустя много лет после встречи с г-жой Сван. Он объясняет нам противоречие, возникающее, когда мы «ищем в действительности образы, что живы в нашей памяти, но им не хватает очарования, которым наделяет их все та же память, — оно недоступно органам восприятия».
Чувство, возбуждаемое в нас нашим городом, слагается на самом деле из ненависти и любви, как всякое глубокое чувство, близкое нашему сердцу. Какой влюбленный не вопрошает сам себя чуть не каждый день, не в силах, подобно Гермионе *, понять, любит он или ненавидит? Наши чувства бесконечно шире нашего лексикона: слова «любовь», «ненависть» необычайно редко отражают то, что мы на самом деле испытываем. Мы ненавидим любимое существо за то, что оно посягает на нас, присваивает себе частицу нашей жизни, навязывает нам ограничения; мы злимся, что оно суживает нашу жизнь, бесповоротно обкарнывает ее и отбивает вкус у всех прочих яств, которыми готов нас потчевать мир. Мы вменяем в вину тем, кого любим, нашу остановку на пути ввысь. Святой Хуан де ла Крус * проповедовал, что душа, прилепившаяся к красоте божьего создания, бесконечно мерзка перед богом. Существо, безмерно любимое и безмерно испытываемое нами, лишает нас более высокой судьбы.
То же и с нашим городом: он обогащает нас, осыпает дарами и в то же время безжалостно урезывает. Мы ценим преимущество быть провинциалом, владеть земельным наделом, производить плоды, обладающие своим особым запахом, букетом, по которому их узнаешь из тысячи других. Но не так уж это и весело — всю жизнь с честью играть роль французского буржуа-провинциала средней руки; отличаться от всех особым привкусом, который дала тебе родная почва, повсюду чувствовать себя чужаком, медлить в преддверии неведомой литературы, словно в ожидании непосильного путешествия. Старое ослепшее животное лучше всех вращает колесо; моя провинция превратила меня в слепого мула, чтобы я молол ее зерно. Знакомьте меня с чужаком сколько угодно раз подряд — я все равно не запомню, как его зовут. Мое нелюбопытство — форма бессилия. Провинция отбила у меня охоту ездить в Рим, в Лондон: она и там обволокла бы меня плотной, удушливой атмосферой, сквозь которую я не увидел бы ничего, кроме карикатур или призраков.
В те времена, когда город цепко удерживал в своем лоне мое отрочество, мне казалось, что я для него — выродок, а не сын, что он не признает меня своим; я думал, что я не похож на других, потому и одинок. Но с тех пор как я расстался с городом, я чувствую себя бордосцем, таким же, как все бордосцы. Быть может, между нами возникло то запоздалое сходство, о котором так любят посудачить в семьях: «Удивительно, как он становится похож на бедную маму...»
Писатель — это участок земли, где ведутся раскопки. Он никого не проведет своим светским лоском, который, как правило, живо усваивают и прирожденные, и новоявленные парижане; он буквально весь нараспашку, весь под открытым небом. Он обречен являть всему миру собственный фундамент, обнажать самые заветные устои. Потому-то, быть может, на этой разрытой почве настоящее не приживается и не превращается в прошлое, пригодное для раскопок. Как ужасно бесплодие литератора, который остается литератором и ничем больше! Один Пруст был последователен, он затворился в комнате с задернутыми шторами и никого не пытался провести. Он знал, что для него нет деревень, кроме Комбре, что никакой боярышник не даст ему тех розовых цветов, что росли на живой изгороди в Тансонвиле. Напрасно ему захотелось потом увидеть еще раз сквозь поднятые стекла автомобиля цветущие фруктовые сады: он был обречен знать лишь те, которые полюбил подростком в окрестностях Мезеглиза. То же — с любым писателем, даже если болезнь не превратила его в затворника. Его писательство — это и есть болезнь, причем неизлечимая, заставляющая его посвятить жизнь воспоминаниям, или, вернее, требующая, чтобы из того, что уже завершилось, он создал новую жизнь; он не смеет использовать другой материал, кроме своего прошлого, беспрестанно плавящегося в нем, не смеет пренебречь этим постоянно кипящим источником; да он и не уверен, что настоящее могло бы что-нибудь добавить его грядущим созданиям; оно может разве что примешиваться к прошлому, оставаясь у него в подчинении. Бордо (под этим названием я разумею весь материал моего творчества) в конце концов всегда поглощает те впечатления, которые я получаю изо дня в день. Любое произведение, навеянное настоящим, оказывается мертворожденным, если ему не найдется соответствия в моем внутреннем Бордо. Замыслы, подсказанные нынешним днем, ничего не стоят, если они не поддаются переносу в завершенную пору моей жизни. Самые свежие ощущения — пары, танцующие танго, грохот джаза и т. п. — могут, несомненно, пригодиться, но лишь в качестве рамы, которая отдаляет пейзаж, выделяет его из целого и в то же время придает особую ценность подробностям. Нередко Бордо ярче вставал у меня перед глазами в толкотне какого-нибудь прокуренного бара, чем сквозь железный парапет, когда поезд ранним утром останавливается на мосту через Гаронну; сидя за одним столом со светскими знакомцами и знаменитостями, я чувствовал на себе взгляды, которые были привычны мне в детстве, а теперь давно угасли.
— Не надейся, что я позволю себя забыть, — шепчет мне Бордо. — Чем дольше ты будешь вести жизнь, отличную от той, какую я тебе уготовил, тем глубже ляжет на тебя мой отпечаток. Не надейся, что персонаж, занимающий тебя сейчас, сумеет когда-нибудь проскользнуть в твои книги, минуя меня: сначала я притяну его к себе, впитаю в себя и он в конце концов обретет новую жизнь в моей атмосфере, единственной, в которой вырабатывается твое убогое творчество.
Быть может, эти соображения справедливы только для меня? Я думаю о Морисе де Герене, который в четырнадцать лет расстается с Кела и возвращается туда на время каникул, а потом — умирать; и все-таки он прожил свою краткую жизнь во внутреннем Кела, к которому долина Аргенона и Ла-Шене добавили леса и морских отмелей. Пусть нам чудится иногда некая непроизвольная искусственность в том, как Баррес привержен к Лотарингии * — Лотарингия, безусловно, владеет им, и ему от нее не убежать: от туманов родины он не спасся ни в Испании, ни в Акрополе. Барресу удавались во всей полноте лишь изгнанники Лотарингии или те, кто утратил либо сохранил в ней корни: с одной стороны — Стюрель, Реноден и прочие, а с другой — братья Байяры. Изображая всех остальных, он улавливал только отталкивающую внешность да ужимки (правда, весьма талантливо). Он всегда был обращен лицом к неброскому лику родных мест.
Любить свою тюрьму, отдавать ей предпочтение, или, вернее, отдавать себе самому предпочтение перед другими — каково выдерживать это всю жизнь? Подобная снисходительность к своему краю и к себе временами неминуемо уступает место жестокой тоске. Я седмижды семьдесят раз отрекался от Бордо; я любил у Туле * ту фразу, где он обличает этот винно-тресковый город, вязнущий в грязи порта без кораблей; я издевался над обитателями Бордо; я удирал от чудовищной скуки его виноградников; меня раздражают выставленные напоказ раны его сосен и их дурацкие индивидуальные горшочки! Превознося до небес Прованс, я всегда противопоставлял его Бордо... и все-таки я люблю Бордо: попросту сказать, люблю самого себя. Он — это то, с чем я никогда не сумею расстаться: сегодня Бордо принадлежит мне, и я не в силах вырвать его из памяти, но наступит день, когда я стану принадлежать ему, его недрам. Когда я с ним в разладе, это значит, что я в разладе с самим собой и ненавижу его за то, что он сделал меня таким ничтожеством.