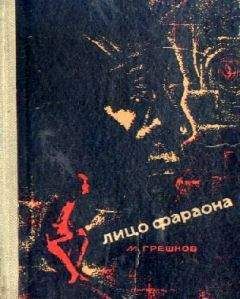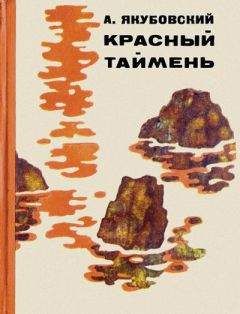Александр Беляев - Всемирный следопыт, 1929 № 10
И трапперу стало понятным и близким это чувство страстной злобы. В этом штабс-капитанишке Сукачев видел винтик той машины, называемой Российской империей, которая бездушно и жестоко распоряжается судьбами как отдельных людей, так и целых стран.
— Пойдемте. Больше нечего смотреть, — взял траппер Сукачева за рукав полушубка. — Кончено!
— И то пойдемте, — тяжело перевел дух заставный капитан. — Лучше уйти от греха, а не то боюсь, врежу кому ни на есть в ухо…
VII. «Ты хотел этого, Жорж Дандэн!»
Но уйти им не удалось. Толпа, промерзшая и уставшая, тоже хлынула с площади по домам. Образовалась толчея. И перед траппером внезапно, словно из-под земли выросший, появился маркиз де-Монтебелло. Погорелко заподозрил, что канадец давно уже следил за ними, а теперь разыграл сцену неожиданной встречи.
— Добрый день, господа! — приветливо крикнул маркиз, поднося руку к своей котиковой шапке. — Рад встрече с друзьями. Не правда ли, тягостная церемония? Особенно этот ужасный случай с флагом. Как хотите, господа, но это некий символ. Русская нация сама, собственными руками сорвала свой флаг, свое достоинство. Ужасно!
Челюсти Сукачева судорожно содержались. Накопившийся гнев наконец-то нашёл выход.
— А при чем тут русский народ? — с недобрым спокойствием спросил он. — Если один мерзавец…
— О, да, да, — поспешил согласиться маркиз. — Видимо я не совсем ясно выразился. Поверьте, господа, что я очень уважаю русских, сынов нации, спалившей пороху больше чем какая-либо другая, за исключением конечно нас, французов. Во всем виноват только ваш бесталанный император.
— Пойдемте, Филипп Федорович, — взял Сукачев порывисто под руку траппера.
— Стойте! — повелительно сказал де-Монтебелло.
— Не о чем мне с тобой говорить! Проваливай! — заорал грубо бессильный бороться со своей злобой Сукачев.
— Мне тоже с вами не о чем говорить, — колко ответил канадец. — Господин Погорелко, вы мне нужны на пару слов……..
Маркиз быстро и резко изменился. Исчезла его приветливая вежливость, веселое многословие. Перед траппером, остро поблескивая глазами, стоял совсем другой человек. И было в этом человеке что-то холодное, безличное и такое неумолимое, что даже обыденные его слова начали приобретать оттенок угрозы, пугая и настораживая. По мнению Погорелко таковым и должен был выглядеть законченный тип бессовестного и опасного негодяя.
— Ну? — коротко и сухо спросил он.
— Я хотел бы услышать от вас ответ на один мой вопрос, — сказал маркиз. — Не передумали ли вы за ночь по поводу наших вчерашних предложений? Я говорю о золоте и о ружьях также.
— Не передумал! — отрывисто кинул траппер. — И никогда не передумаю! Больше ничего?
— Больше ничего! — кивнул головой маркиз. И плавно повернувшись на каблуках, уходя, он бросил через плечо с коротким смешком:
— «Ты сам хотел этого, Жорж Дандэн!»[29]
И подошел к женщине, одетой в тяжелую меховую шубу, в круглой барашковой шапочке и в белом, с золотой кистью башлычке на голове. Женщина эта стояла спиной к трапперу и повидимому рассматривала с любопытством индейцев, толпившихся у костров. Маркиз с почтительной фамильярностью взял ее под руку. Погорелко только что хотел отвернуться, чтобы последовать за ушедшим уже Сукачевым, как в этот момент повернулась женщина. Траппер увидел ярко алевшее от мороза лицо, оживленнее и красивое.
Но эти широко расставленные серые глаза, насмешливые и вызывающие?.. Но этот ураган непокорных волос, выбившихся из-под шапочки?..
— Аленушка!.. Это вы, Аленушка? — дико закричал Погорелко и с протянутыми руками, спотыкаясь, побежал к женщине.
Но женщина с насмешливыми серыми глазами испуганно попятилась назад от бегущего на нее бородатого, дикого вида человека, одетого с ног до головы в меха.
— Вы не узнаете меня, Аленушка? — с отчаяньем крикнул траппер. — Да ведь это я!..
Глаза женщины широко открылись. Что-то прошло в них легкой дымкой.
— Это вы, Филипп… — она запнулась и добавила нетвердо — Федорович?
— Ну, конечно! — ликующе взмахнул руками Погорелко. — Ну, конечно я! Наконец-то узнали!
Он, забывшись, тискал ее руки, смотрел жадно на ее ресницы в бахроме инея, на пряди светлокаштановых ее волос, усеянных кристаллами снега, и как в бреду повторял:
— Наконец-то я вас снова увидел!.. Какое счастье!.. Наконец-то снова!..
И вдруг, вздрогнув, он выпустил из своих ручищ маленькие слабые руки женщины. Из-за ее спины смотрел на траппера маркиз де-Монтебелло. Глаза его, прищуренные нето от солнца, нето от скрытого смеха, поблескивали как два маленьких лезвия.
— Как вы попали сюда? — с трудом выговорил Погорелко, смотря не на нее, а на канадца. — Давно ли приехали, Аленуш… — Но он тотчас же поправился: — Елена Федоровна?
— Не более недели из Петропавловска. Хотелось посмотреть, как будут передавать американцам Аляску. Говорили, будет очень интересно. Не нахожу. А знаете что, Филипп Федорович, — вдруг обрадованно вскрикнула она. — И чего это мы на морозе будем разговаривать? Приходите-ка лучше ко мне. Я живу в переулочке против церкви. Красный дом с черепичной крышей. Знаете? Буду ждать вас в семь. Видите, я еще не изменила своим институтским привычкам — принимаю только после семи. Придете?
— Приду! — обрадованно, снова загораясь, крикнул он. — Обязательно приду. Спасибо вам.
— Ну, вот и прекрасно. До вечера, — протянула она ему руку, затянутую в мягкую лайку. Погорелко инстинктивно наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но сконфузился неожиданно и выпустил, лишь пожав крепко.
А она, сделав по-былому насмешливую гримаску, рястягивая певуче слова, сказала вдруг:
— По-смотрите, господа, да посмотрите, господ-a, на-а-а зверя морского-о!..
А затем рассмеялась и, повернувшись, быстро убежала.
Он долго смотрел ей вслед, на золотую кисть ее башлычка, качавшуюся при ходьбе, и думал, что означают эти слова. А вспомнив, захохотал.
Так кричали в Петербурге шарманщики, бродившие по дворам с морскими свинками.
* * *
На единственной Петропавловской улице, иллюминованной сальными плошками и китайскими фонарями, разукрашенной флагами, вечером гуляли жители, солдаты, поселенцы и арестанты. Тюрьма по случаю торжества была открыта на всю ночь. В «замке Баранова» играл оркестр, снятый с фрегата, и пели церковные певчие. «Собачья Смерть» чествовал американцев банкетом. Около церкви перепившиеся солдаты палили из пасхальной пушки до тех пор, пока пушку и пушкаря не разорвало…
(Продолжение в следующем, номере)
-
Три месяца в Московском зоопарке.
Очерк и зарисовки художника Б. А. Зенкевича.
I
В начале октября прошлого года, я получил от художественного издательства АХРР предложение исполнить в Московском зоопарке серию рисунков для открыток. Работа показалась мне интересной. До сих пор единственными моими натурщиками из мира животных были мой кот и зеленый амазонский попугай без имени, просто Попка. Натурщиками они были идеальными. Попка приходил в восторг от диких звуков, испускаемых мной, и нахохлившись, не двигаясь, часами слушал мои музыкальные упражнения. Вероятно в его представлении я был необычайным певцом и музыкантом. Что касается Котьки, то с ним дело обстояло проще. Двести граммов вареной колбасы, до которой он страстный охотник, приводили его в состояние, близкое к трансу.
Теперь мне предстояла более интересная, увлекательная работа: рисовать диких зверей, непрерывно двигающихся, не подчиняющихся никаким приказаниям.
«Рисует»… «Нет, торгует пеналами»…Переговоры затянулись, наступили холода, а я опрометчиво полагал, что зарисовка зверей не будет представлять для меня затруднений. «Три недели, — думалось мне, — только три недели, и все будет окончено».
На самом деле вышло иначе, Вместо тропических зверей издательство предложило мне рисовать зверей СССР, как назло великолепно переносящих холод и зимующих на воле. Правда, список зверей составлял я сам, но не мог найти среди них ни одного, не способного переносить холод.
В смысле выбора одежды дело было просто: валенки, свитер, малахай. Но руки? Что делать с руками? Я пробовал рисовать без перчаток. Невозможно. Через две-три минуты пальцы отказывались служить.
Один из моих друзей-художников дал мне добрый совет:
— Я всегда работал зимой, и нет лучшего средства от замерзания рук, как хороший шерстяной носок.