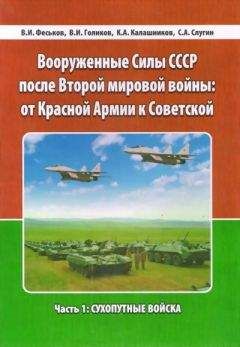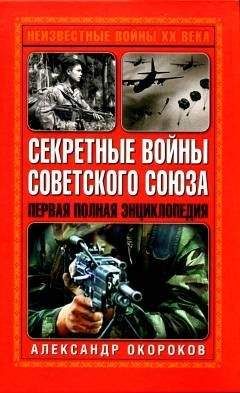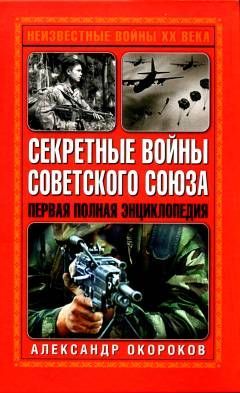Иосиф Бродский - Интервью Иосифа Бродского
окрестных полей на щеках моих -- знак печали,1
клочья рыжих волос над ломбардской равниной -
знак, что ты не исчез, ты пока что в Италии.
Пока. Покой. Покой, как у солнечной дали,
как у белой пустыни, окружавшей твое заключенье,
как у стертых режимом текстов. Изгнанье
ты узнал, как Назон, поскольку поэзия -- преступленье,
потому что в ней правда. Твои это здесь деревья.
II
Плеск голубиных крыльев заполнил окно,
трепет души, отлетевшей от немощи сердца.
Солнце на колокольнях. Гул чинквеченто,
волны бьются о пристань, когда вапоретто2
в канале дробит отражение переселенца,
и за скорбной ладьей скрывается борозда -
так гребешок заставляет светлые волосы слиться,
так переплет заглушает хрипы последней страницы,
так, хвою твою отключив, слепит меня белизна.
Ты уже не прочтешь меня, Джозеф, так что' стараться?
Книга распахнута в город, в огромный каменный двор,
окрестные купола теперь для души твоей средство,
минутный насест над чеканной водой Венеции,
голубь кружи'т над лагуной, яркость терзает взор.
Воскресенье. Нестройный звон по тебе кампани'л.
Ты считал, что каменные кружева мешают
погрязнуть в грехах, -- так лев под покровом крыл
железной лапой удерживает наш шарик.
Искусство -- лебяжьи скрипичные грифы
и девушки с горлами го'ндол -- было в твоей компетенции.
В день твоего рожденья твержу о тебе Венеции.
В книжном меня занесло в отдел биографий,
к корешкам, на которых вытиснены великие.
Купола забирают в скобки пространство залива.
За ладьей твоя тень загибает за' угол книги
и ждет меня там, где кончается перспектива.
III
В косматых стро'фах и здесь ты был занят своим -
среди виноградников, по'том кропя их корни
и не видя в упор, -- пел медлительный северный гимн
туману, бескрайней стране, облакам, чьи формы
сердито изменятся, только мы их сравним
с неплотной материей, сквозь которую вечность
глядит в голубое оконце: их ждет конкретность -
древесина как пламя, пламя как дым очага,
голубь как эхо полета, рифма просто как эхо,
горизонт как блеклость, голых ветвей кружева
на гладкой странице, полное поле снега,
врага кириллицы, и с карканьем ворон над ним,
и всесильный туман, застилающий мироздание, -
все это не только далекая география,
но твоя родная среда, ты жил ею, предпочитая
мороз и размытый очерк слепящему свету
солнца на ряби, -- а ладья уже близко к причалу,
и путник в последний раз раздавил каблуком сигарету,
и лицо, дорогое лицо, попало уже на монету,
с которой его стирают пальцы тумана.
IV
Пена в бликах пролива бормочет Монтале
серой соли, шиферу моря, сиреневатости
и индиговости холмов, и вдруг -- кактус в Италии
и пальмы, и звучность имен на краю Адриатики.
Между скал твое эхо посмеивается в расселины
вслед за взрывом волны, а стихи эти, словно сети,
заброшены в дали для ловли -- не только сельди,
но лунной камбалы, радужно-яркой форели,
морских попугаев, коралловых рыб, аргентинской кефали
и вселенского влажного духа морей и поэзии,
и себе удивленной взлетно-посадочной пальмы,
и нечесаных водорослей, и слюды Сицилии, -
духа острей и древней, чем дух норманнских соборов
и реконструированных акведуков, -- так пахнут руки
рыбаков и их говор, сохнущий вдоль заборов
надо мхом. Волн бегущие парные строки,
гребешки, барашки, напевы из общей горизонтали,
лодка, врезанная в песок, по причине
того, что на остров приплыл ты -- или Монтале, -
стихи, рождаясь, трепещут, как угри в корзине,
Джозеф, я снова здесь, ради тебя и себя,
первая строчка со старой сетью сойдется,
я вгляжусь в горизонт, вслушаюсь в строфы дождя
и растаю в вымысле, большем, чем жизнь, -- в море, в солнце.
V
Сквозь аркаду моих кедров доносится чтенье -
перелистывается молитвенник океана,
каждое дерево -- буквица в розах и гроздах,
в каждом стволе, как эхо, таится колонна
санкт-петербургских строф и усиленных, слезных
слов тонзурного певчего при служенье.
Проза -- судья поведенья, поэзия -- рыцарь,
сражающийся пером с огнеметным драконом,
почти выбитый из седла пикадор, он тщится
усидеть. Над чистой бумагой с тем же наклоном
нависшие волосы о'блака так же редеют,
так же -- твой метр и тон был настроен на Уи'стана,3
на честный стих с римским профилем, на портрет
младшего цезаря, верившего, что истина
в удаленье от рева арен -- пылью покрытый завет.
Я взмыл над псалтирью прибоя и кедро'вой аркадой,
в книгах кладбищ твой камень, притин моей скорби,
не нашел и парю над утлой, в морщинах, Атлантикой,
я орел, уносящий в когтях орех твоего сердца
в Россию, к корням бука, восторгом и горем
вознесенный, частицу тебя возношу в восхищенье,
я уже лечу над Назоновым Черным морем
и со мною ты, родившийся для паренья.
VI
Из вечера в вечер, из вечера в вечер и вечер
август хвоей шуршит, апельсиновый цвет предела
протек сквозь булыжник, и четкие тени ложатся
параллельно, как весла, на улицы длинное тело,
на подсохшем лугу прянет гривой литая лошадка,
и проза вздрогнет на грани метра. Как угорелые -
под раздавшимся сводом летучая мышь и ласточка,
на сиреневые холмы возводит дня убывание,
и счастье туманит взор подходящему к дому.
Деревья захлопнули дверцы, и море просит внимания.
Вечер -- гравюра, в медальоне твоего силуэта
гасят любимый профиль частицы мрака,
профиль того, кто читателя превращал в поэта.
Лев мыса темнеет, как лев святого Марка,
роятся метафоры где-то в недрах
сознанья, с тобой заклинания волн и кедров
и узорчатая кириллица машущих веток,
облачка' на совет бессловесный друг к другу плывут
над Атлантикой, тихой, как деревенский пруд,
бутоны ламп расцветают на кровлях селенья,
и пчелы созвездий в небе из вечера в вечер.
Твой голос из тростниковых строк, отрицающих тленье.
Перевод с английского Андрея Сергеева
1 В дни скорби римляне не брились. (Здесь и далее -- прим. перев.)
2 Венецианский речной трамвайчик.
3 Имеется в виду замечательный англо-американский поэт Уистан Хью Оден.
* Дерек Уолкотт (род. в 1930 г. в Кастри, на о. Сент-Люсия) -американский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1992). Автор стихотворных книг "25 Poems" (1948), "Epitaph for the Young" (1949), "Poems" (1953), "In a Green Night" (1962), "Selected Poems" (1964), "The Castaway, and Other Poems" (1965), "The Gulf, and Other Poems" (1969), "Another Life" (1973), "Sea Grapes" (1976), "Selected Poems" (1977), "The Star-Appled Kingdom" (1980), "The Fortunate Traveller" (1981), "Midsummer" (1984), "Collected Poems: 1948--1984" и др. Особо высокой оценки заслужила эпическая поэма "Omeros" (1990), мифологически интерпретирующая историю его народа сквозь призму гомеровского эпоса. Иосиф Бродский назвал Дерека Уолкотта "метафизическим реалистом" и "великим поэтом английского языка".
(c) Дерек Уолкотт, 1997.
(c) Андрей Сергеев (перевод), 1997.
-----------------
Бенгт Янгфельдт. Комнаты Иосифа Бродского
Почти каждое лето с 1988 по 1994 год Иосиф Бродский проводил несколько недель в Швеции, и многие из его произведений -- поэтических, прозаических, драматических -- были написаны здесь. Так, например, книга о Венеции ("Набережная неизлечимых") была частично написана в Стокгольме, в угловом номере гостиницы "Рейзен" с белым трехмачтовым "af Chapman" ("аф Чапман") перед глазами: "Как только выходишь из отеля, с тобой, выпрыгнув из воды, здоровается семга".
Комната в "Рейзен" была обычным, довольно большим гостиничным номером. Не слишком большим, но на грани того, что выносил Бродский. Тем не менее ему удавалось здесь работать: возможно, давящий излишек площади компенсировался видом на самую ему дорогую стихию -- воду, эту форму сконденсированного времени.
Размер комнат, их планировка постоянно занимали Бродского, поскольку он постоянно нуждался во временном помещении для работы. Каждое летнее полугодие он проводил в Европе, спасаясь от нью-йоркской жары, смертельной для сердечника. Те его друзья, которые год за годом старались, по мере возможности, обеспечить поэту необходимый ему рабочий покой в Лондоне, Париже, Риме или Стокгольме, знают, как это было нелегко. Даже те, кто считал, что кое-что знает о его вкусах, не могли предугадать, как отреагирует поэт на предложенный метраж. Вода, вид из окна, свинцовые волны -- в теории сходились, но он отказывался или не мог решиться, и ничего не получалось.
Несколько раз Бродский подолгу, то есть пока денег хватало -- обычно пару недель, жил на борту корабля-гостиницы "Мэларгроттнинген". Каюта была крошечная, едва повернуться, но хлюпающая близость воды с лихвой восполняла недостаток площади.