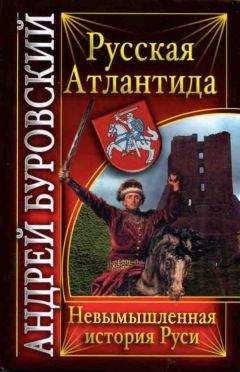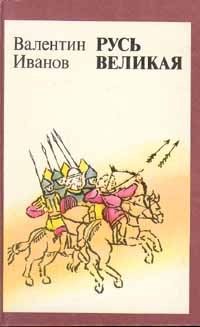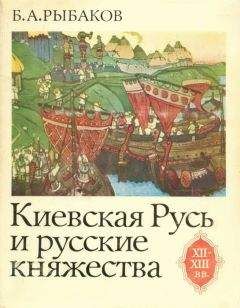Виктор Астафьев - Русская мелодия
К зрителю можно и нужно идти не через дешевое потакание низменным вкусам и «запросам», а воспитывая оные, работать с учетом возможностей данного театра, данных актеров, то есть актеров именно красноярского театра, но не хвататься за то, что сейчас на виду, в моде и по силам другим театрам. Это лишь нивелирует театр, делает его безликим, похожим «на всех», и самое страшное — стирает в синтетический порошок талант артиста, лишает его индивидуальности.
Главный режиссер может покинуть театр, уйти в другой и начать там «новаторствовать» или тянуть взмыленную лямку ремесленника. Но что делать артисту? Ему от себя и от своей бедной зарплаты некуда уйти. Как он будет преодолевать в себе развращенность полуработой, виртуозное приспособленчество ремесленника? До творчества ли ему, если его гонят, как колхозную лошадь со сбитой спиной и шеей, растертой плохо сшитым хомутом в кровь, люди, не умеющие держать вожжи в руках и все-таки желающие обогнать всех рысаков, в том числе и столичных. Как возможно за двенадцать (!) дней ставить очень сложный в техническом да и исполнительском отношении спектакль? А ведь ставили! И говорили: «Потом, в работе, от спектакля к спектаклю творение это будет набирать силу. Вот посмотрите десятый или шестнадцатый спектакль — и убедитесь!»
Эти утешительные сентенции я слышал много раз и на периферии, и в столице.
Но зритель не ходит пока в наш театр по шестнадцать раз подряд и не может видеть, как «в процессе дозревал и дозрел-таки» тот или иной спектакль. Порой и чаще всего он, как овощь, убранная веселыми студентами с тучных колхозных полей, так и не успев дозреть, сгнивает в овощехранилищах, которые народ точно называет «овощегноилищами».
Я с тревогой смотрю на наш театр. Здание старое, полуистлевшее, на сцене и за сценой холодно зимой и жарко, пыльно, душно летом, подсобные службы никуда не годятся, рабочие сцены часто меняются, а то и вовсе исчезают, и не могу нарадоваться порой, не восхититься, что в этих, почти невозможных условиях, люди упорно работают, творят и порой «выдают на-гора» хорошие, крепко сделанные и сыгранные спектакли.
А что если выдохнутся, устанут? Что если наш театр тоже охватит вечный недуг российских театров, работающих «на пределе», и довольно слаженную, старательную труппу начнет разъедать ржавчина распрей, сплетен и раздоров?
Тогда все мы вместе с направляющим наши дела и мысли руководством культуры края бросимся спасать наш театр. Но я по опыту знаю — давно в провинции живу и провинцию «зрю»: спасать театр, вступивший «на тропу войны» и впавший в творческий маразм, почти всегда бывает поздно, его приходится создавать заново.
И чтобы этого не случилось, нужно театру постоянное внимание (не мелочная опека, не «наставничество», не запретительные окрики), вот именно внимание и помощь, не на словах, а на деле.
Летом 1987 года красноярский театр, носящий имя Великого поэта России, что, кстати говоря, тоже ко многому обязывает, едет на гастроли в очень «театральные» города — Челябинск и Свердловск. Гастроли почетные, рассчитывать на снисхождение и добродушие зрителей Камчатки и Дальнего Востока здесь не приходится. Придется предстать перед хорошо подготовленным зрителем — лицом к лицу. Я желаю, чтоб не пришлось стыдливо краснеть театру и нам, его почитателям, за наш родной театр. Хочется верить в успех на Урале и в то, что ему предстоит еще многое преодолеть и сделать, завоевывая «своего» зрителя. Он, наш зритель, пока что с прохладцей, или со своеобразным «пониманием», относится к искусству театра, валом валит на спектакль с дешевеньким зазывным названием «Я — женщина» и не очень спешит смотреть Достоевского. И сетовать на него нельзя, не полагается, лучше почаще вспоминать, что в Сибири, на родине театра имени Пушкина, говорят: «Каки сами — таки сани». Может, от этого больше пользы будет.
1986
Пакость
Пакостлив как кошка, труслив как заяц.
Русская поговоркаВ тамбуре подъезда нашего дома вывернули лампочку. Вечером она еще удивленно и радостно сияла, а утром на стене чернел пустой патрон.
Лампочка стоила тридцать копеек, ее ввернул мой сосед, побывавший в электромагазине как раз в тот момент, когда там «выбросили» лампочки. Со дня сотворения дома в тамбуре нашего подъезда лампочек не было. И вот диво! Сияние! Кто-то еще вечером скрипнул пророческим голосом: «Сопрут!» Но мы не поверили брюзге, дом почти крайний на горе, в подъезде нашем, тоже крайнем, никогда не толкутся пьяницы, парни, сбежавшие с уроков, влюбленные парочки. Кошек у нас всего три на подъезд, собак всего две, почтовые ящики не искорежены, стены не расписаны — все живут «свои» люди, вежливые, смирные, всегда здороваются друг с другом.
И все-таки лампочку увели! У себя! В своем подъезде! Непостижимо, правда?
«А чего тут непостижимого, — возразят мне, — да сплошь и рядом пакости творятся».
Вот послушайте.
В доме, совсем неподалеку от нашего, шесть лет подряд кто-то ночью выносил мусор под лестницу, и к весне его набиралась куча. Веснами эту, начавшую разлагаться кучу убирали жители подъезда, выражали свои чувства, сами понимаете, какими словами. Его, пакостника, караулили, пытались по мусору угадать, кто это, но ни конверта, ни квитанции, ни газеты с номером квартиры за шесть лет так и не смогли найти.
Только смерть, опять же смерть — судья беспристрастный и строгий разрешила роковой вопрос: умер преклонных лет серьезный мужчина — и мусор под лестницей прекратился…
Я знаю шофера, который, завидев собаку на дороге, обязательно старается ее задавить. У самого у него есть собака — лайка, ухоженная, умная. «У меня собака путная, а этих… Всех передавить надо!» Я ему толкую, что лишь фашистам свойственно определять, кто «путный», кто «непутный», кому жить, кому не жить. А он мне: «Слюнтяи вы все!.. Вот и позасорили жизнь-то».
Мы, значит, позасорили жизнь-то, а он, этакий новоявленный добровольный санитар-моралист, ее очищает.
Согласно морали такого вот блюстителя чистоты и порядка, стало быть, нужно вытирать ноги о коврик соседа — у него жена дома сидит, не работает. Если приспичит — разбить бутылку на чужой лестничной площадке, набросать окурков да еще и написать на стене что-нибудь выразительными словами на добрую память собратьям и жильцам; коли старушка слаба и еле движется по автобусу или трамваю, давнуть ее молодецким плечом — пусть сидит, не путается под ногами; коли нет дичи в лесу, не нашлось, не попалась, но зарядов полон патронташ и стрелять хочется — перебить стаканы на телеграфных столбах; коли рыба в речке не клюет — подбросить ей «порошку» и на время обморок устроить; коли подманить дудкой или выследить марала не удается — петлю на его пути; коли захотелось в доме иметь шкуру медведя, но его, медведя, боязно: задрать может, — борону ему, бродяге, — это когда борону оставляют вверх зубьями и зубья затачивают вроде жегры, наступив на такую борону, медведю ничего не остается, как орать благим матом, взывая со звериной мольбой прекратить его муки.
Продолжить еще? Рассказать о тех, кто снимает шапки с чужих голов? Кто отбирает у детей серебрушки? Кто портит телефоны-автоматы? Кто разрушает автобусные остановки просто так, с тоски и от буйства сил? Кто тащит книги из библиотек? Кто таит пять копеек в потной ладони, стараясь сэкономить на автобусном билете? Кто стонет и визжит во время сеанса в кинотеатре, выражая свое эстетическое чувство? Кто врубает на всю ночь проигрыватели, чтобы повеселить соседей? Кто выбрасывает мусор в окно вагона, на головы путевых рабочих? Кто…
Продолжайте, продолжайте! Но пакостников по сравнению с порядочными людьми все же не так много. Откуда же такое чувство, что мы порой опутаны ими? Не оттого ли что примирились с ними, опустили руки? Владимир Даль, опять же он, батюшка, давно и во все времена дающий нам точные ответы, называет пакость скверной, мерзостью, гадостью, злоумышлением, да еще дьявольским, и советует: «Всякую пакость к себе примени… На пакость всякого станет…»
Пакость чаще всего творится скрытно. Если бы ее «засветили», если бы видно сделалось, она, быть может, и прекратилась, ибо пакость, хотя и не всегда любит и часто не приемлет зрителя, все же иногда и при зрителе происходит и для него делается. Если бы пакостить негде было, не рыхлилась бы для нее почва, нечем бы стало ей прикрываться, пришлось бы нам кончать с очень многими дурными наклонностями. Ну, допустим, все из той же пресловутой торговли: себе и друзьям — получше, другим — что достанется; еще лучше: себя снабдить, остальные — как знают. В пятидесятые годы слово «ОРС» расшифровывали так: «основное растащили сами, остальное раздали своим». Мораль сия воспрянула снова. Ну а после того, как растащили, себя и своих снабдили, можно вовсе ничего не делать, только эту шушеру под названием «покупатель» презирать: месяцами не завозить в овощной магазин картошку — грязно; не заказывать хлеб — на хлебе план не потянешь.