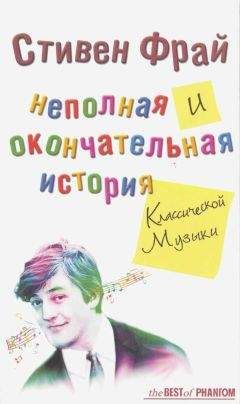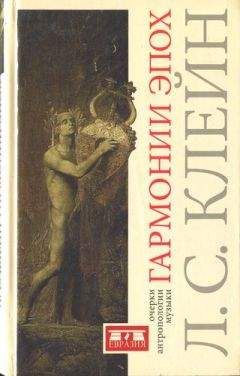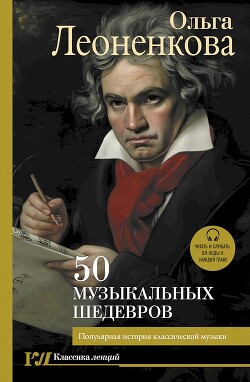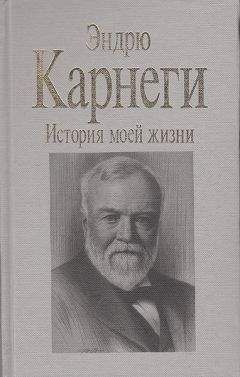Пять прямых линий. Полная история музыки - Гант Эндрю
Поздние годы принесли всем четверым почет, болезни, ретроспективы и расположение критиков. (Бриттен сказал Майклу Типпетту, что из-за всего этого чувствует себя так, словно он уже мертв и трупом его занимаются музыковеды.) Проблемы со здоровьем изматывали и Бриттена, и Шостаковича; Мессиану удавалось много сочинять до самой смерти; Копленд ощутил, что старые идеи больше не вдохновляют его, «в точности так, словно кто-то завернул кран» [1495], и стал все больше дирижировать.
Теперь поговорим о музыке. Каждый из композиторов оставил после себя весьма своеобразный корпус сочинений, в которых четыре несходные между собой личности проявляют себя в череде различных технических и артистических выборов, сделанных в силу того, что каждый из них наблюдал за столетием с собственной позиции.
Подобно Моцарту и Верди, Бриттен обладал драматическим темпераментом, а инструментами его были слова и человеческий голос, чаще – и важнее всего – голос его партнера, музы и интерпретатора, Питера Пирса. Однажды он сказал: «Я все время стараюсь разработать профессиональную технику, контролируемую сознанием» [1496]. Песня «В твоих глазах прекрасных я вижу нежный свет», сонет XXX из «Семи сонетов Микеланджело», ясно показывает, каким образом он этот контроль находил. Множество пассажей музыки Бриттена структурировано вокруг своего рода остинато. В данном случае повторяющееся соль-мажорное трезвучие обрамлено триольными мелодиями ниже и выше. Затем аккуратно вводится другое трезвучие, фа-диез мажор. Повторяющийся аккорд начинает смещаться от своего якоря в соль мажоре, ненадолго укореняясь в си мажоре. Когда композитор возвращается в соль мажор и одновременно сводит вместе две триольные мелодии, нам становится понятно назначение материала вступления. В то же время музыка и слова рассказывают нам, что солнце и луна, мелодия и гармония, до мажор и фа-диез мажор, голос и фортепиано, певец и исполнитель, Бриттен и Пирс также слились воедино. Вот чего может достичь безупречный контроль за техникой в XX столетии. Кроме того, это очень красивая песня.
О музыке Шостаковича сложно что-то утверждать наверняка. В ней есть нечто одержимое, как и в характере композитора (он часто посылал письма самому себе с тем, чтобы проверить, насколько эффективно работает почта). В начале Одиннадцатой симфонии 1957 года отрывки народной песни звучат в исполнении довольно необычного набора инструментов – флейта, контрабас, литавры, – создавая странное и неуютное впечатление несогласованного движения, подобно медленно плывущим и несталкивающимся льдинам. Структурные элементы формируют неотвратимую последовательность событий, завершающихся катастрофическим финалом. Во множестве его струнных квартетов самые простые ритмы могут перемежаться застывшими фугами, гротескными мелодиями, двенадцатитоновыми фразами, произнесенными один-два раза, а его личный мотив D. S. C. H. повторяется подобно пульсирующему голосу чего-то невидимого. Может быть, смерти?
Техническая одержимость Мессиана совсем иного толка, однако она не менее убедительна. Он помог нам в понимании его процедур, оказав неоценимую услугу тем, что детально изложил их в книге, описывающей его ранние стилистические изыскания, «La Technique de mon langage musicale» («Техника моего музыкального языка») в 1941 году. В главах о ритме он повествует о своих исследованиях индийской музыки в поисках «добавленных значений» (нерегулярно сменяющихся групп из двух и трех единиц, которые Типпетт называл «аддитивными ритмами») и «необратимых ритмов» (таких, которые одинаково проигрываются как вперед, так и назад, то есть палиндромов). Мелодии и звукоряды категоризируются в рамках его «теории ладов ограниченной транспозиции» (звукорядов, у которых существует только ограниченное число версий: транспонирование целотонного звукоряда последовательно вверх на полтона, например, порождает только две разные версии, а затем они начинают повторяться: октатонная гамма, составленная из попеременной пары тон-полутон, имеет только три возможные транспозиции). Его глава об аккордах – подобающим образом названная «Гармония, Дебюсси, добавленные ноты» – показывает, каким образом конструируются его экзотические звуковые сочетания и как они соотносятся: она написана ясным и подробным языком подобно средневековому трактату. И все это имеет одинаковое отношение к музыке: здесь нет математических формул, есть лишь сложный, поражающий воображение, моментально понятный и крайне музыкальный, изобретательный артистизм. Послушайте различные звуки и ритмы в «Quatuor pour la fin du temps», или же блочные секции «Dieu parmi nous» из «La Nativité du Seigneur» (1935), сходящейся в финале в величественный ми-мажорный аккорд из ярко диссонирующих, колоритных и совершенно логичных движений. В Турангалила-симфонии он, совершенно не стесняясь, создает оглушительный оркестровый звук из голливудского китча, мотивов Гершвина и даже элементов музыки к мультфильмам MGM. «Des Canyons aux étoiles» (1971), музыкальное изображение Брайс-каньона в Юте, воспроизводит цвета и песни звезд и птиц с помощью поразительного набора инструментов – перкуссии, фортепиано, волн Мартено и щебечущих духовых инструментов. На фотографии Мессиан стоит среди красно-золотых скал каньона с карандашом и нотами в руках в знаменитом, надетом набекрень берете, с тщательно взбитым коком, как пересмешник, или moqueur polyglotte, чью песню он пытается расслышать и превратить в музыку уникальных тембра, мощи и характера.
Копленд также черпал вдохновение на широких просторах Америки, но его Америка – это страна людей, а не птиц и ангелов: «Родео», «Весна в Аппалачах», «Билли Кид», веселые аранжировки «Старых американских песен» (1950 и 1952), таких как «At the River», «Ching-a-Ring-Chaw», «I Bought Me a Cat» и «Simple Gifts». Одно из самых узнаваемых сочинений XX века – его «Фанфары для обычного человека», написанное им в 1942 году в честь простого американца, которому пришло время платить подоходный налог, как он однажды сказал дирижеру Юджину Гуссенсу. Он не соглашался со Стравинским в вопросах эмоциональности музыки, называя музыкальные произведения «продуктом эмоций» [1497], и соглашался с Бриттеном относительно необходимости «техники, контролируемой сознанием»: «Большую часть жизни я провел в попытках найти верной ноте верное место» [1498]. Быть простым – большой дар.
Композиторы часто являются ненадежными гидами по собственной музыке. История полна указателей, ведущих не туда, куда надо, и туманных объяснений, иногда сообщаемых намеренно. С Шостаковичем это случилось даже посмертно, когда 1979 году, спустя четыре года после его кончины, вышла книга Соломона Волкова «Свидетельство», которая, как утверждал автор, основана на диалогах с композитором: даже его сын Максим в разное время делал противоречивые утверждения относительно ее аутентичности. Бриттен публично говорил о музыке мало: его замечания по этому поводу в частных письмах необходимо читать с учетом контекста отношений автора и адресата, а также нужд и задач композитора в то или иное время. Мессиан иногда использовал метафоры, будучи отпрыском семьи поэтов и шекспироведов, однажды сказав об использовании им ритма: «Помните ведьм в «Макбете»: «Пока не двинется наперерез / На Дунсинанский холм Бирнамский лес… виден / Навстречу замку шествующий лес» [1499] [1500]. Предисловие к «Технике моего музыкального языка» открывается предостерегающим утверждением: «Всегда опасно говорить о себе» [1501].
Копленд изо всех был, видимо, наиболее артикулированным и готовым говорить о музыке. Тогда, быть может, мы завершим главу парой его наблюдений, по-разному резонирующих с судьбами и музыкой каждого из четырех, и таким образом выскажемся о столетии, которое каждый из них отобразил: «Искусство не делается из страха и подозрений… Чтобы создавать произведения искусства, мне необходимо верить в то, что мир и жизнь в конечном счете добры» [1502].