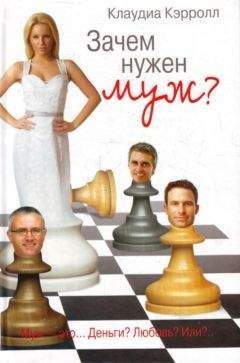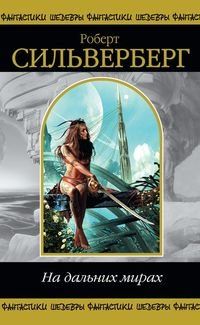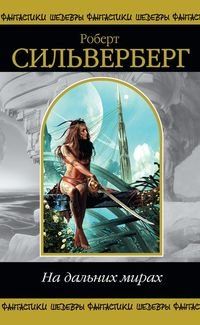Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах
Пропустим мимо ушей замечание о женщинах — оно какое-то… жестяное. Как и пропаганда уюта в комиссарских устах. Но судьба Разума в стихах поэта, всегда считавшего себя «поэтом сути», а не поэтом красот и иллюзий, — тема решающая.
Память или забвение? Опять — и то, и другое? Память — пароль, фонарь, компас, имя первой книги. Забвение — выход из кошмара памяти. С того момента, как в харьковской школе велено было забыть имена любимых вождей, оказавшихся врагами народа, идет эта тяжба:
«Уменье памяти сопряжено с уменьем забыванья, и зерна в амбарах памяти должно не переполнять кубатуру сдуру. Забвенье тоже создает культуру».
Так сдуру или от ума? Разум или безумие — что же в основе миростроя (мирослома)? Что спасительнее: знать или не знать? «Я был умнее своих товарищей и знал, что по проволоке иду». (Не у Слуцкого ли подхватил Окуджава свою цирковую арабеску?) Но у Слуцкого все очень серьезно: «Твоя тропа, а может быть, стезя, похожая на тропы у Везувия, — и легкое, легчайшее безумие, безуминка… а без нее нельзя…»
Это легкое, как пух, предчувствие ярмом ложится на душу, когда из масштабов твоего личного опыта (проволока… соломинка… песок…) переходит на масштаб страны, а чаще — как у всех земшарцев — на всемирную историю и даже на мироздание в целом.
Что же такое история?
Маятник. «Я наблюдал не раз, как в чернь народ великий превращался и как в народ он возвращался, и богом становился червь». Державинское подкреплено теперь священными заветами обеих великих религий: «Есть итог. Подсчитана смета. И труба Гавриила поет. Достоевского и Магомета золотая падучая бьет». Потрясающие строки — еще и потому, что золоту, в деньгах соседствующему с жестью и спасающему «продолговатое тело», возвращена святость, ни от чего не спасающая. Потому что под ударом — Вселенная, а не только страна, разрывающая договор, или, как тогда говорили, пакт…
«Разрыв отношений повлек за собою разрыв молекул на атомы, атомов на электроны, и все обратилось в ничто, разложив и разрыв пространство, и время, и бунты, и троны».
Что делать в этом катастрофическом контексте? Летать? Ползать? Плыть по течению? «За привычку летать люди платят отвычкою плавать».
Рвануть скатерть со стола в уютном доме? Так и эдак — конец. «А то, что я конечен, а оно (время — Л.А.) дождется прекращенья мирозданья — об этом договорено давно» (Кем? С кем? Жестянка для дураков?).
Для умных — ни утешения, ни сострадания. Финиш.
«Значит, нет ни оркестра, ни ленты там, на финише. Нет и легенды там, на финише. Нет никакой. Голько яма. И в этой яме, с черными и крутыми краями, расположенна дне покой».
Кажется, это уже финальная дилемма:
«Застрять во времени своем, как муха в янтаре, и выждать в нем иных времен — получше, поясней?.. А может, выйти из рядов и так, из ряду вон, не шум огромных городов, а звезд услышать звон?..»
Философские уравнения пронизывает звездный звон…земшар летит по кругу… все кольцуется, замыкается:
«И поскольку я верю в спираль, на каком-то витке повторится время то, когда в рифме и в ритме был я слово и честь, и мораль».
Мораль имеет и вес, и размеры. Честь ощущается физически, как удар пули. Слово каменеет между памятью и забвеньем. Душа, бьющаяся на краю осознаваемой безнадежности, пытается замкнуть собственную судьбу: раз история может дождаться оборота вокруг оси, значит, и «счастье — это круг. И человек медленно, как часовая стрелка, движется к концу, то есть к началу, движется по кругу, то есть в детство…»
Поэзия, промерившая взглядом философские бездны, возвращается к реальности с усмешкой на сведенных устах:
«Дядя, который похож на кота, с дядей, который похож на попа, главные занимают места: дядей толпа».
Ничего себе, картинка детства! То ли судорога смеха, то ли дьявольский пасьянс на тему: индивид и толпа. Индивид стоит в уголке: «рыжий мальчик», держит мячик «в слабой руке». Какой заряд самоиронии нужно сохранять для такого возвращения в детство!
И какую силу таланта — для строк, врезанных в мировую лирику двойным поворотом поэтического ключа: от богородицы с младенцем — к младенцу, кормящему мать, и от этой больничной жути — все-таки к ощущению святости:
Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице.
Что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?
Оксюморон железного времени: полет и голод. Невозможность усидеть. Невозможность наесться.
С финальным аккордом обрывается последняя потаенная нить, связывавшая мятущуюся волю с ускользающей реальностью, — та самая, без которой, как говорят литературоведы, не может состояться великий поэт: любовь к женщине. Это интимное, глубоко запрятанное чувство изначально прикрыто бравадой «гнусных рож», рвущих на части «продолговатое тело», потом бравадой демобилизованного майора (как-то Слуцкий со смехом описал, как был «отшиваем» при попытках познакомиться на улице со случайными дамами, одна из которых даже позвала на помощь милицию).
Подлинное любовное чувство долго не показывается из-под показной грубости — разве что в посвящениях: лучшие стихи Слуцкого адресованы Татьяне Дашковской задолго до прямого объяснения в любви.
Прямое объяснение происходит на последней черте, когда неизлечимая болезнь ставит предел жене-избраннице, тихой слушательнице, музе-хранительнице. Тут-то бог и вспоминается:
Господи, дама в белом —
это моя жена,
словом своим делом
лучше меня она…
И ведь только раз отдал стихи «про это» в печать, только когда дни ее были уже сочтены:
Все, что было твердого во мне,
стального — от тебя и от машинки.
Ты исправляла все мои ошибки,
а ныне ты в далекой стороне…
Наконец, на последнем ее дыхании:
Я был кругом виноват, а Таня
Мне все же нежно сказала: — Прости! —
Почти в последней точке скитания
По долгому мучающему пути.
В чем виноват?! В том, что принял закон железного времени и ему не изменил? В том, что закон обернулся крахом? В том, что не признал этого краха? В том, что признал — со стоическим мужеством? В том, что не хотел знать жалости? В том, что принял жалость — от любимой женщины, теряющей силы?
Татьяна Дашковская скончалась 6 февраля 1977 года. Это был конец поэта. Слуцкий сопротивлялся еще три месяца. Нет, меньше: девяносто дней. Нет, еще меньше: восемьдесят шесть. Он любил вдумываться в цифры…
86 дней после катастрофы он пишет, пытаясь стихами спасти душу.
Потом наступает тьма.
Из этой тьмы мемуаристы и, в частности, Владимир Огнев выносят впечатления леденящие, если искать в них таинственный смысл. Общительный, вечно нацеленный на помощь тем, кто попросит — Слуцкий замыкается, отрезает визитеров фразой: «Никого нет!» Всю сознательную жизнь сидевший на аскетическом «солдатском» пайке, он жадно набрасывается на еду, приносимую визитерами, которые все-таки проникают к нему в лечебницу: он не может наесться.
Иные подозревают, что ребе-комиссар притворяется безумным: Александр Межиров, певец цирка, имеющий особый вкус к высокому притворству, определяет: «Борис играет роль».
А может, все наоборот? Может, он выпадает из роли, которую добровольно выбрал в железном театре эпохи, а когда исполнил обет, — то и воскрес в нем мальчик, который ушел когда-то (выкрался в носках) из тихого родительского дома и впаялся в «железное общество»?
Это определение: «железное общество» — он употребил впервые в раннем стихотворении, где уповал на ленинское обещание украсить золотом сортиры — то есть навсегда уничтожить власть денег.
Железо принципов встало против звона монет. Золото, серебро — неважно (всю жизнь впоследствии Слуцкий начинает разговоры с друзьями, особенно молодыми, нуждающимися в поддержке, с вопроса: «Нужны деньги?» — самим тоном снимая благоговение перед монетным звоном).
Совсем другой звон потаенно живет в его поэзии:
С орбиты соскочив, звезда,
навек расставшись с ней,
звенит тихонько иногда,
а иногда — сильней.
Последним усилием поэтической воли он просит прощения у Достоевского, Толстого и Маяковского за то, что не выдерживает роли. «С Александром Сергеичем проще…» И делает то, чего не делал никогда раньше: ставит дату. 22 апреля 1977.
Поэт гаснет. Тело железного комиссара еще девять лет сопротивляется смерти.
Пациент психолечебницы Борис Абрамович Слуцкий умирает в день Советской Армии, 23 февраля. Год — 1986.
Великий поэт остается Вечности.
ДАВИД САМОЙЛОВ:
«ВЫПАЛО СЧАСТЬЕ…»