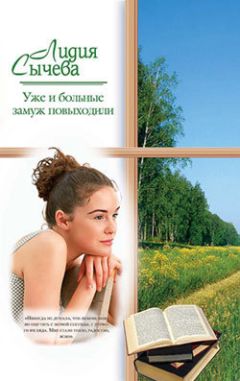Лидия Сычёва - Время Бояна
Прошли годы. Встречаемся, он мне и говорит: Валя, а ведь ты прав! И тоже самое о моей правоте говорит Егор Исаев — и он войну прошел.
Во время войны был выработан великодержавный стандарт — у нас Политбюро, партия, мы победим. А под этим стандартом шло величайшее, безоглядное разрушение русского народа! Если республики имели свои правительства, ЦК, Совмины, вузы, то мы были — для всех. И это сказалось. Во всех республиках, даже при жесточайшем контроле за проявлениями национализма, их руководители все равно пеклись о своем народе. А у нас о русских никто не думал. Помню, как-то французский корреспондент приехал к Брежневу и говорит: «Леонид Ильич, по нашим подсчетам, на каждого русского ребенка приходится примерно шесть детей других национальностей. Что будет через 15–20 лет с русским народом?» У Генсека челюсть выпала, он поднял ее, долго вытирал платочком, убедился, что чистая, вставил на место и говорит: «А меня это радует. Я — интернационалист».
Я смотрел на него и думал: с кем же мы имеем дело? Ну хоть бы раз он приголубил русских! Разве мордва или татары обиделись бы на него за это? Ведь от такого безразличия всем плохо. Допустим, мы завтра проснемся, а маленького народа — коми — нету. Это же ужасно! Я хочу, чтобы каждый коми жил, чтобы был светлый, как бутуз. Как это — потерять народ?
И вот фронтовые поэты на эти темы не размышляли, они не подготовили наше поколение. И может потому мой друг, прекрасный поэт Владимир Цыбин в национальном плане до конца не высказался. То ли это робость, то ли это привычка утаить свою боль, вдолбленная ленинизмом и чекизмом во главе с товарищем Дзержинским. Но не распахнулся он, не сказал, как нас убивали и уничтожали. Что такое полтора миллиона донского казачества истребить?! А мне мой дедушка про кровавые дела на Урале рассказал. И отец мне рассказывал: поедем куда-нибудь в ночное, вокруг никого нет. «Сынок, а ты знаешь…» И меня мучает этот вопрос: почему Павел Васильев шел не труся, а Володя после него не смог себя выразить? Значит, надломленность в нас шевелится…
— Да, народ сильно проредили. Откуда же взяться теперь народности в поэзии?
Учебник зоологии
Не хуже мифологии:
В нём тоже злые, потные
Бодаются животные.
— Часто, когда говорит русский поэт о народности, можно услышать пошловатое хихиканье безродинных тварей: отсталость, этнография! А народность, она не может быть неумной, некрасивой, лишней, неграмотной. Народность — народность образует, народность — народность воспитывает. Век — век воспитывает, от века в век всё мудрее тяжелее, трагичнее жизнь. Но не глупее. Вот Иван Никитин:
В синем небе плывут над полями
Облака с золотыми краями;
Чуть заметен над лесом туман,
Теплый вечер прозрачно-румян.
Озарение какое — зорями!
Вот уж веет прохладой ночною;
Грезит колос над узкой межою;
Месяц огненным шаром встает,
Красным заревом лес обдает.
Какая дышащая природа — Боже мой!
Кротко звезд золотое сиянье,
В чистом поле покой и молчанье;
Точно в храме, стою я в тиши
И в восторге молюсь от души.
Вот поэт! Миг поэта, когда он один. А то: «Я один в этом веке!». Ну и болван ты, если ты чувствуешь, что в этом веке умнее тебя нет. Удивительно, посмотрите: какое растворение в природе и какое величие самоосознания! И лиризм какой, проникновенность какая. Мы можем сказать, что перед нами поэт, но мы можем сказать, что видим Александра Суворова после ужасной битвы. Устал он и плачет на эту зарю. А может, это великий креститель всея Руси? Он устал образовывать нас, звать нас к покою, свету, мудрости, и он, один, стоит и говорит — вот я и природа, неужели вы не чувствуете, как мне тяжело сейчас?! Это и есть поэзия.
Или Николай Языков. У Пушкина: «Есть у нас Языков. Он стоит, как утес». Стихотворение «Родина»:
Краса полуночной природы,
Любовь очей, моя страна!
Твоя живая тишина,
Твои лихие непогоды,
Твои леса, твои луга,
И Волги пышные брега,
И Волги радостные воды —
А эпитет какой выбрал — радостные воды!
Все мило мне, как жар стихов,
Как жажда пламенная славы,
Как шум прибережной дубравы
И разыгравшихся валов!
Все стихии, все состояния вобрал. «Как жажда пламенная славы» — не постеснялся сказать: хочу быть знаменитым; «И разыгравшихся валов», — на всякий случай и Стеньку Разина вспомнил.
Всегда люблю я, вечно живы
На крепкой памяти моей
Предметы юношеских дней
И сердца первые порывы;
Молитва!
Когда волшебница мечта
Красноречивые места
Мне оживляет и рисует:
Она свежа, она чиста,
Она блестит, она ликует.
И наплевать мне, если нас безродинные так укоряют — родинолюбы. Да, вам на голову, предателям Отечества, есть мы, родинолюбы. И я бы хотел, чтобы на кресте моем вырубили — родинолюб. И чтобы он долго стоял, этот каменный крест…
Да, чтобы мы не делали, и как бы мы не предавали, или не рыцарствовали, становясь витязями, сынами Отечества, но в слове любимая, в слове мама, в слове брат, сестра, отец, в слове бабушка, в слове дед, в слове Родина, в слове крест, в слове судьба — всё в слове; в слове — Бог, в слове — ты, в слове — призвание, счастье, победа, если ты — не ложь. И всё в конечном счете венчается любовью. Любовь к женщине, глазастой, доброй, красивой, ждущей тебя, любовь к холму, к птице по имени кулик, к галке, к стрижу, к соловью, сваливающемуся с ветки — стихи, паразит, наверное, тоже сочиняет, и далее — к России, все в одном имени — я люблю и понимаю, как я люблю, так, значит, я и умею, так я, значит, и живу. Есенин:
Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в глазах твоих увидел море,
Полыхающее голубым огнем.
Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну,
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.
Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени — Россия —
Я известный признанный поэт!
Посмотрите, он не жалеет, что не был на Босфоре, не жалеет, что не был в Багдаде, не жалеет, что не ходил с караваном. Но ты, любимая, знай: «Что в далеком имени — Россия — / Я известный признанный поэт!» Что может быть выше?! Орел не взлетит на эту высоту.
А Владимир Бондаренко изрекает: «О существовании Юрия Кузнецова, пусть со скрежетом зубовным, но не могут ни на минуту забыть ни патриоты, ни наши литературные либералы». Миф заезжего двупаспортного диверсанта. Тюленеву оплошность прощаю, а изуверство Владимиру Григорьевичу — нет.
Володя, за что же ты так унизил Кузнецова и возненавидел патриотов и либералов, аж встал нараскоряку над ними и выхватил револьвер?!
Начни с патриотов, с главной цели своей! Расстреляй их, Лаврентий Павлович, расстреляй! Ну, расстреляй же, расстреляй их, последних ратников русских!
А вот ранние стихи Юрия Кузнецова. Удивительная ясность мифических наитий поэта. Она — прекрасна:
Завижу ли облако в небе высоком,
Примечу ли дерево в поле широком, —
Одно уплывает, одно засыхает…
А ветер гудит и тоску нагоняет.
Что вечного нету — что чистого нету.
Пошел я шататься по белому свету.
Но русскому сердцу везде одиноко…
И поле широко, и небо высоко.
Предначертанная высота
— Валентин Васильевич, в своих статьях, интервью вы часто говорите о поэтах, которые, скажем так, не входят в современную «информационную обойму». В словаре «Русские писатели 20 века», составленном членкором РАН П. Николаевым, мы не встретим имен Сергея Поделкова, Василия Казина, Павла Шубина, Михаила Львова, Дмитрия Ковалева. Сергей Поделков, будто предвидел свою судьбу, когда писал: «Среди друзей — я на виду, среди врагов — всегда потерян».
— Да, я часто говорю об ушедших поэтах. Как говорится, да не будут забыты те, кто не должен быть забытым.
Вот Сергей Александрович Поделков. Его звали «ходячей энциклопедией», а Василий Дмитриевич Федоров мне говорил: «Ну что ты им так восхищаешься? Мы его тоже любим, и, наверное, не меньше тебя. Но только ты одного не понимаешь, Валентин. Вот ты им восхищаешься, что он начитанный человек, и все знает, как лесник — лес, пахарь — поле, пчеловод — летящих золотистых пчел, а я вот, Валентин, думаю, что если бы он был чуть-чуть поменьше образованным, он был бы лучше как поэт».