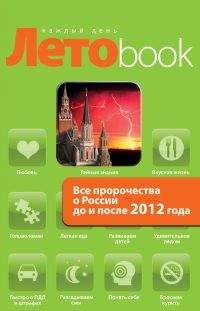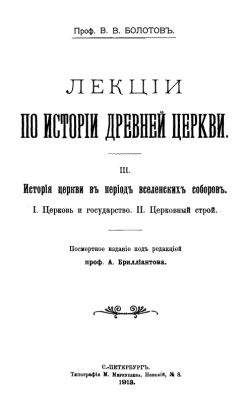Михаил Ямпольский - Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933 гг.
Осмелюсь ли я мечтать о, безусловно, еще, очень далеком будущем, когда киномим исчезнет или его роль сузится, а полное господство над формальной драмой, развернутой во времени, перейдет к кинопластику? Обратите внимание на одну важнейшую вещь, которая, как мне кажется, еще не была замечена, или, во всяком случае, чьи поэтические последствия не были оценены.
Кино воплощает время в пространстве. Более того, с его помощью время действительно становится измерением пространства. Через тысячу лет после происшествия мы сможем увидеть, как из-под копыт скачущей лошади поднимаются, растут и, растворяются клубы пыли, как сигаретный. дым сначала густеет, а потом исчезает в эфире, и все это в ритмах пространства, лежащего перед нашими глазами. Мы сможем понять, почему обитатели далекой звезды, если они могут наблюдать за землей в мощные телескопы, воистину являются современниками Христа; потому что в тот момент, когда я пишу эти строки, они присутствуют при его распятии, которое они, возможно, фотографируют или даже снимают на кинопленку, ведь свет, падающий на нас, тратит девятнадцать или двадцать веков, чтобы достигнуть их. Мы можем даже представить себе - и это еще в большей мере может повлиять на наше понимание длительности, - что в один прекрасный день мы сможем увидеть этот фильм, либо присланный нам в некоем космическом снаряде, либо переданный на наши экраны не коей системой межпланетной связи. И возможность для нас стать современниками событий, которые произошли за десять или сто веков до нас, оставаясь при этом в пространстве нашего бытия, не противоречит данным науки. Мы уже превратили время в орган, играющий свою роль в самом пространственном организме, разворачивая перед нашими глазами последовательную смену объемов, постоянно модифицируемых масштабом нашего восприятия, так, чтобы мы могли охватить их поверхностную протяженность и глубину и мы уже извлекаем из этого неизвестное ранее пластическое наслаждение. Если остановить движение самого прекрасного из известных вам фильмов, то вы не получите даже тени того удовольствия, которое он вам доставлял. Время становится для нас необходимостью. Оно все неразрывней принадлежит динамической идее, которую мы изо дня в день составляем об объекте. Мы пользуемся им по нашему усмотрению. Мы можем его ускорять. Мы можем его замедлить. Мы можем его уничтожить. Я его хорошо чувствую, я, обращающийся к вам, я чувствую, как оно составляет часть меня, как вместе с пространством, измеряемым им и служащим мерилом для него самого, оно замуровано живьем в темнице моего черепа. Гомер - мой современник, как и лампа на столе передо мной, потому что Гомер участвовал и участвует в создании являющегося мне под этой лампой образа. Введя в качестве конструктивного элемента понятие пространства, понятие длительности, мы легко представим себе расцвет кинопластического искусства, превратившегося вне что иное, как идеальную архитектуру, из которой, я еще раз повторяю, исчезнет кино мим, потому что большой художник сам может строить здания, возникающие и исчезающие и вновь возникающие из незаметного перехода тонов и форм, самих по себе, в каждый момент длительности принадлежащих архитектуре, и мы не сможем уловить даже той тысячной доли секунды, когда произойдет этот переход.
Вспоминаю, как я присутствовал при чем-то подобном в самой природе. В 1906 году в Неаполе я видел большое извержение Везувия. Двухтысячеметровый султан, торчавший из жерла вулкана, был сферическим, хорошо выделялся на фоне неба. В его недрах беспрерывно возникали и исчезали огромные массы пепла, из которых и состояла гигантская сфера, пепел производил на ее поверхности постоянное зыбкое волнение, изменчивое, но как бы поддерживаемое внутренним притяжением, сохранявшим, казалось бы, неизмененными массу, форму и размеры. В какое-то мгновение мне показалось, что я понял закон рождения планет, удерживаемых гравитацией вокруг солнечного ядра. Мне показалось, что в этом заключается формальный символ того грандиозного искусства, ростки которого мы наблюдаем, но которое созреет лишь в будущем: огромная движущаяся конструкция, постоянно возрождающаяся на наших глазах из самой себя одной своей внутренней мощью, в создании которой участвуют во всем их многообразии человеческие, животные, растительные и неодушевленные формы, вне зависимости от того, кто его создает группы людей или один человек, чьих сил достаточно, чтобы сделать все самому.
По поводу этого последнего утверждения следует дать разъяснения. Вы знаете эти еще совсем сухие, худосочные, неловкие мультипликационные фильмы, которые показывают на экране и которые относятся к воображаемым мной формам так же, как детские каракули, начерченные мелом на доске, к фрескам Тинторетто или картинам Рембрандта. Представьте себе, что три или четыре поколения бьются над проблемой углубления пространства этих фильмов, притом углубления не через плоскости и линии, а через объемы изображений, их моделировку валерами и полутонами, серией последовательных движений, которые с помощью длительной тренировки войдут в привычку и постепенно превратятся в рефлекс, так что художник сможет использовать эти навыки в драме или идиллии, комедии или эпопее, на свету, в тени, в лесу, городе, пустыне. Представьте, что у художника, обладающего всеми этими возможностями, сердце Делакруа, творческая мощь Рубенса, страсть Гойи и сила Микеланджело: он воплотит на экране кинопластическую трагедию, целиком порожденную им самим, нечто вроде визуальной симфонии, столь же богатой, сколь сложной, открывающей своим полетом во времени видения бесконечности и абсолюта, одновременно столь же волнующие своей таинственностью и еще более волнующие своей чувственной реальностью, чем звуковые симфонии величайшего из музыкантов.
Это далекое будущее, которого я не знаю, но в возможность которого верю. А тем временем кинопластик все еще пребывает в тени, на втором плане, и царят великолепные киномимы, один из которых, как минимум, гений, и они обещают нам создание коллективного зрелища, которого мы так ждем и которое заменит умерший священный танец, умершую философскую трагедию, умершую религиозную мистерию, все великие мертвые действа, вокруг которых собирался народ, чтобы соединиться в радости, вызванной победившим самое себя пессимизмом поэтов и танцоров. Я не пророк, я не знаю, чем станет через сто лет это прекрасное порождение воображения того существа, которое одно среди всего живого знает, что судьба его не сулит ему надежды, и одно на всем свете живет и мыслит, как если было бы вечным. Но мне кажется, что я уже вижу, чем могло бы оно стать и очень быстро, если бы вместо того, чтобы влачиться за театральными штучками вдоль душераздирающего сентиментального вымысла, оно бы, используя пластические средства, сконцентрировалось вокруг волнующего и страстного действия, в котором мы могли бы узнать свои собственные добродетели. Мы стремимся во всех уголках мира выйти из формы цивилизации, ставшей из-за неумеренного индивидуализма импульсивной и анархистской, и войти в форму пластической цивилизации, предназначение которой – заменить аналитические исследования состояний и душевных кризисов синтетическими поэмами масс и действующими ансамблями. Мне кажется, что архитектура будет главным средством ее выражения, архитектура, чей облик, кстати, трудно определить; может быть, это будет подвижная промышленная конструкция, корабли, поезда, автомобили, самолеты, которым дороги, плавучие мосты и гигантские купола будут служить пристанищами и почтовыми станциями. Кинопластика, без сомнения, будет наиболее существенным духовным оформлением этого мира - самой важной для развития доверия, гармонии и сплоченности социальной игрой в толщах духа.
Леон Муссинак
LEON MOUSSINAC.
Леон Муссинак сыграл выдающуюся роль в становлении французской кинотеории и кинокритики. Он родился 19 января 1890 года в небольшом поселке Лярош-Миженн, учился в лицее Карла Великого, где судьба свела его с другим выдающимся деятелем французского кино, Луи Деллюком. Деллюк оказал на Муссинака большое влияние, привлек своего соученика к поэзии, театру, живо заинтересовал живописью и современной литературой. Однако активно участвовать в художественной жизни Муссинак начал позже Деллюка, лишь по окончании первой мировой войны. Демобилизованный после восьми лет воинской службы, Муссинак начинает писать, и вскоре его имя становится широко известным. В 1919 году он публикует первую статью о кино в журнале Деллюка «Фильм», а уже в 1920 году становится ведущим кинокритиком солидного журнала «Меркюр де Франс» Он уделяет много внимания театру, совместно с Полем Вайаном-Кутюрье пишет фарс «Папаша Июль».
Вайан-Кутюрье, бывший в то время депутатом-коммунистом и одним из руководителей «Юманите», привлекает Муссинака к сотрудничеству в центральном органе ФКП, способствует приобщению своего друга к идеям коммунизма. Работа в «Юманите» окончательно формирует общественные и художественные убеждения Муссинака. Отныне вся его жизнь посвящена двум нераздельно связанным идеалам - революции и искусству. Муссинак активно борется за пропаганду советского кино во Франции. Именно он добивается демонстрации на Выставке декоративного искусства 1925 года фильмов Вертова и «Стачки» Эйзенштейна. Муссинак организовал во Франции просмотр «Броненосца «Потемкин», ему же принадлежит честь организации первого массового киноклуба «Друзья Спартака», занимавшегося пропагандой советского кинематографа. В 1927 году Муссинак в Москве участвует в торжествах, посвященных десятой годовщине Октябрьской революции. Из своего путешествия в СССР он привозит первую на Западе серьезную книгу о советском кино («Советское кино», 1928). В 30-е годы деятельность Муссинака кипуча и разностороння. Вместе с Арагоном он основывает Ассоциацию революционных писателей и художников, затем создает Театр международного действия, два года замещает Арагона в качестве французского делегата Международного союза писателей, руководит коммунистическим издательством «Эдисьон сосьялы», журналами «Коммюн» и «Регар» и постоянно пишет.