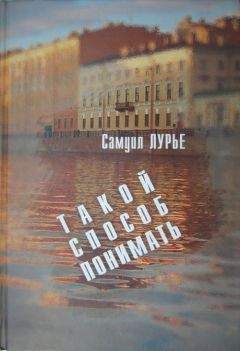Самуил Лурье - Железный бульвар
Раньше я воображал, что это — государство. Механический такой динозавр, и у него бракованная микросхема в проржавевшем мозгу.
Теперь наконец-то вижу (век живи — век учись): какое там! какое государство! Просто чины. И чин чина почитает. Всеми способами. Включая, наверное, разумные и законные, но это как-то не бросается в глаза.
Вот и весь секрет нашего ничего. И лучше его не знать. Лучше, как мы (и как советовал Бродский), жить в глухой провинции у моря. Здесь все такое незначительное, что почти не страшно.
Здесь первое лицо награждают медалькой за услуги, оказанные госбезопасности, причем вручают медальку публично, — и первое лицо кланяется и благодарит.
Здесь, конечно, как и повсюду, режут смуглых, узкоглазых, черноволосых, — но каждый раз объявляют, что это нетипичная случайность, и как только будут опять повышены милицейские оклады, все пройдет.
Здесь все еще делят недвижимость — и кому подсыпают яд, кому отрубают голову (обычные споры хозяйствующих субъектов), — но проигравший, будучи трупом, не плачет, а тайна выигрыша охраняется как бы законом.
Здесь только две горячих точки — зоопарк и союз писателей. Кому возглавить заключенных животных? И как приучить разномыслящих кудесников слова питаться объедками из одного корыта?
(Разномыслие, кто не знает, касается популярного стишка; одни предпочитают политкорректный вариант: лицо еврейской национальности по веревочке бежит, — а другие напирают на рифму; но запах со дна корыта и сладок и приятен; кроме того, есть специальные персонажи — вхожие в Смольный; они за эту вхожесть повенчают с лягушкою хоть кого.)
В общем, почти что пастораль. Только от одного эпизода повеяло большим современным стилем. Это когда на как бы суде над членами группировки Шульц-88 (кто такой Шульц — понятия не имею, а цифрой, говорят, зашифрован Гитлер; славные, должно быть, ребята) главный обвиняемый: требую, чеканит, очной ставки с экспертом, который усмотрел в наших лозунгах и действиях не одну лишь патриотическую невинность! Ему говорят: вы же знаете, что эксперт — Николай Гиренко — убит, причем, по совпадению, тоже патриотами; по совпадению же — в аккурат как только усмотрел. А этот, значит, 88-й Шульц в ответ: меня не касается! по закону он обязан ответить на мои вопросы! подать Гиренко сюда! Или назначайте новую экспертизу, а эту — в мусоропровод. Правовое или нет наше поле, в конце-то концов?
Угадайте, чью сторону взял прокурор. Правильно.
Сочельник, вечер. Шлепаю по грязному тротуару (не Хельсинки) темной улицы (не Стокгольм), подбиваю сальдо городского года. Вот Гиренко убит. И пятилетняя таджикская девочка. И еще кое-кто.
Зато устранен Размыв.
Многие, подобно мне, станут с 1 января заметно бедней (транспорт и коммунальные тарифы).
Зато голова свободней: хотя бы за счет местного радио и пресловутого Пятого телеканала. Пошлость такого высокого напряжения: не включай — убьет! Да и центральные не отстают.
Новая Голландия погорела. Но зато, без сомнения, теперь-то войдет в рыночную экономику и, более того, станет демилитаризованной зоной.
Короче, все ничего.
Ничего ничему ничем ни о чем.
27 декабря 2004
ЖЕЛЕЗНЫЙ БУЛЬВАР
Учиться взвешенным высказываниям. Типа: производство снега в нашем городе слегка сократилось, но зато наблюдается уверенный прирост грязи; а это, что ни говорите, тоже национальный продукт.
Сравнивая жизнедеятельность местной политфауны с процессами на других меридианах, не обольщаться географической спецификой, а цедить через губу: все хороши голубчики, повсюду одно и то же.
Взять хоть пресловутый парламентаризм. В России он похож на водное поло. Только вместо хлорированной Н20 — конвертируемая валюта, и ворота — одни, причем пустые. Рассекая, стало быть, упругую среду — то погружаясь в деньги с головой, то выныривая (отфыркиваясь, как тюлени) — игроки поочередно забивают голы. Стадиону. И счет, естественно, всегда сухой.
Разумеется, это смешно: когда машина, требующая на одно лишь техобслуживание миллиарды и миллиарды рублей, производит такие изделия, как последний закон государства Российского.
Который гласит: азартные игры в тюремных камерах воспрещаются, за нарушение — штрафной изолятор, 15 суток.
Да, не такой уж могучий акт юридической мысли. Мозг нации, размещенный аж в четырехстах черепных коробках, должен, по идее, обладать кругозором пообширней, чем у коридорного надзирателя.
Но, во-первых, он себя проявит еще не так; будет нам и белка, и свисток, и стопроцентная солдатчина, и квартплата больше зарплаты (чтобы, значит, население не мешкало переезжать из лубяных жилищ в ледяные).
А во-вторых — палата, например, общин в хваленой Англии тоже занимается черт знает чем. Открыто защищает интересы лис. Докатилась до запрета на охоту — под надуманным предлогом: дескать, отнимать жизнь, даже у рыжих, — якобы некрасиво. Хотя подоплека очевидна: просто-напросто страждут озими от бешеной забавы, вот лобби лендлордов и расстаралось.
Но это еще что! А итальянская палата депутатов чего удумала? Non, видите ли, fumare! В смысле — no smoking! Нигде. От Рима до самой до Адриатики.
Это же у скольких людей на планете (признаюсь: в том числе и у меня) накрылась мечта. Мало ли что бывает, думали мы: вдруг на улице сам подкатится под ноги набитый долларами кошелек, или нобелевку присудят за красивые глаза, — и тогда на старости лет махнуть на Апеннины, погулять недельку по Флоренции, прах ее побери; в каком-нибудь, не знаю, Бриндизи либо в Римини на лавочке у фонтана посидеть, одной рукой придерживая фляжку; а в другой — сами знаете что.
И вот, пожалуйста: вместо Италии на карте сияет перевернутый медный таз, — вместо Ирландии, кстати, тоже, по той же причине, — а вдобавок и дома не размечешь в СИЗО фараон. Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский. Нет в жизни счастья человеку с вредными привычками.
От грустных мыслей — чтобы не впасть, как обычно, в неконструктивный негатив, а то читатели жалуются, — спасаюсь на улицу. В конце концов, и Северная Пальмира, городок наш, — ничего. Не уступает, говорят, Флоренции. А теперь и превосходит: по крайней мере, до штрафа за сигарету пока еще не додумались. То есть додумались, конечно, да только милиционеров на всю страну — два миллиона; прочих вооруженных лиц у государства — миллиона три; частных охранников — миллион… Короче, руки коротки, кишка тонка: нас, табакуров, больше, и мы не итальянцы. По пустякам не беспокоимся: капитализм там, социализм, силовики — боевиков, боевики — силовиков, ворократия-дурократия, — но если заденут за живое, пойдут клочки по закоулочкам.
Так вот, выхожу с Харьковской на Старо-Невский — батюшки-светы! Сколько живу, напротив был скверик, точнее — садик. Шагов десять на тридцать. Дюжины полторы тополей, под ними штук семь скамеек; общественный туалет в нерабочем состоянии (правильней сказать — в имперском: ни воды, ни света, но стены целы, и дух по-прежнему силен); все это с двух сторон обнесено чугунной решеткой, с третьей — возвышается брандмауэр, а четвертая отступает зигзагами в чей-то двор.
Представьте же: решетка невредима, туалет неколебим, — а деревьев и скамеек след простыл! Не поверив глазам, перешел Старо-Невский: точно. Все выкорчевано и аккуратно так утрамбовано заподлицо.
Не поддаваясь панике, рассуждаю взвешенно: надо думать, это новообразование мое муниципальное начиталось Достоевского и под лозунгом «Красота спасет мир!» постановило перепланировать пятно бедной послевоенной зелени. Здесь, наверное, будет маленький Версаль. Тополя вступили в пенсионный возраст, туда и дорога, на смену им явятся вскоре легкие липы; обнажившуюся штукатурку брандмауэра можно затянуть плющом; там и сям кусты разноцветных роз в густой, тугой траве; вдосталь скамеек, изящных и удобных; и, само собой, туалет — недреманный, как Государственная Дума. Единственный, между прочим, от Лавры до вокзала. И вообще, скверов на протяжении целого Невского только три, считая наш. Не могли же любители Достоевского продать его под, скажем, застройку. Да никто им и не позволит.
А некий внутренний голос перебивает: ох, могли! еще как могли! ох, позволят им! еще как позволят! Недаром прилегающий переулок давеча вымостили плиткой, опять же срубив старые тополя, заместив чахлыми новобранцами.
Прошелся и переулком. Гляжу — номерные знаки-то на домах — новенькие: оказывается, не переулок это теперь, а бульвар. Тележный бульвар, представьте. Звучит?
Надо сказать, в XIX веке и вплоть до 1933 года это был переулок Железный. Потом его переименовали в честь соседнего — который расползся вширь, сделавшись обыкновенным проходным двором. И вот новый поворот судьбы. Ох, боюсь, неспроста. Не первый год на рынке живем: стратегию рекламы, спасибо говорящему ящику, понимаем. Квартира на бульваре, хоть бы и Тележном, стоит, ясное дело, дороже, чем в бывшем Железном переулке.