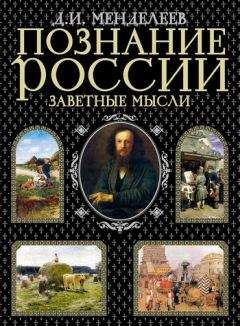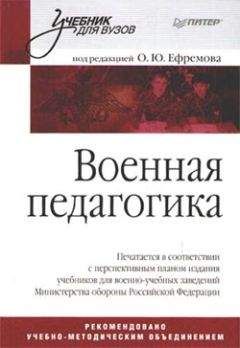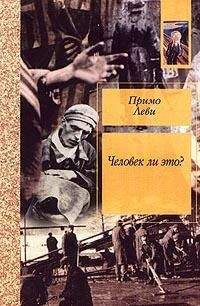Примо Леви - Канувшие и спасенные
Когда я вернулся из заключения, меня пришел навестить один знакомый. Он был старше меня, тихий, фанатично преданный собственной вере, которая мне всегда казалась суровой и слишком серьезной. Он обрадовался, найдя меня живым и невредимым, и сказал даже, что я возмужал, стал крепче и — главное — духовно богаче. И еще он сказал: то, что я выжил, надо считать не случайностью или стечением счастливых обстоятельств (как считал и до сих пор считаю я), а исключительно волей Провидения. Я был отмечен, избран. На меня, неверующего, ставшего бесповоротно неверующим после Освенцима, сошла благодать, я оказался спасенным. Но почему именно я? Этого нельзя знать, сказал он, может, потому, что ты пишешь и несешь свое свидетельство; разве ты не начал в 1946 году писать книгу о своем заключении?
Подобное рассуждение показалось мне кощунственным. Я почувствовал боль, словно мне задели живой нерв, и меня снова охватили сомнения, о которых я только что говорил: я мог остаться в живых вместо другого, за счет другого, порабощенного, фактически убитого. «Спасенные» не были ни лучшими, ни избранными, ни вестниками. То, что видел я своими глазами, свидетельствует об обратном: выживали по большей части худшие, эгоисты, жестокие, бесчувственные, коллаборанты из серой зоны, доносчики. Это нельзя назвать твердым правилом (в мире нет и не было людей твердых правил), и все же это было правило. Я считал себя невиновным, случайно затесавшимся в толпу спасенных, а потому постоянно искал оправдания в собственных глазах и в глазах других. Выживали худшие, те, кто умел приспосабливаться. Лучшие умерли все.
Умер Хаим, часовщик из Кракова, праведный еврей, который, досадуя на языковой барьер, пытался понять меня и объяснить мне, новичку, основополагающие законы выживания в первые, самые трудные лагерные дни; умер Сабо, молчаливый венгерский крестьянин ростом под два метра, а потому всегда более голодный, чем остальные, но находивший в себе силы помогать тем, кто еще слабее; умер Роберт, профессор Сорбонны, который внушал окружающим мужество и уверенность, говорил на пяти языках, напрягал и без того превосходную память, чтобы зафиксировать все происходящее; если бы он остался в живых, то смог бы ответить на те вопросы, на которые не нашел ответа я; и еще умер Барух, портовый грузчик из Ливорно, сразу, в первый же день, потому что ответил ударом на полученный удар и был за это забит до смерти тремя капо. Эти и другие, коим нет числа, умерли не потому, что были хуже, а потому что были лучше.
Мой религиозный друг сказал мне, что я выжил, чтобы свидетельствовать. И я свидетельствовал в меру своих сил, не мог не свидетельствовать и свидетельствую до сих пор, когда мне предоставляется такая возможность; но мысль о том, что только благодаря своему свидетельствованию я удостоился привилегии выжить и жить в течение многих лет без особых проблем, не дает покоя, потому что привилегия и результат кажутся мне несоизмеримыми.
Повторяю, не мы, оставшиеся в живых, настоящие свидетели. К этому неудобному выводу я пришел постепенно, читая воспоминания других и перечитывая свои собственные, от которых меня отделяют годы. Мы, выжившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы — это те, кто благодаря привилегированному положению, умению приспосабливаться или везению не достиг дна. Потому что те, кто достиг, кто увидел Медузу Горгону, уже не вернулись, чтобы рассказать, или вернулись немыми; но это они, Миselmanner [25], доходяги, канувшие — подлинные свидетели, чьи показания должны были стать главными. Они — правило; мы — исключение. Под другим небом, другой человек, Солженицын, вернувшийся из похожего и непохожего рабства, также отмечал:[26]
Почти каждый зэк-долгосрочник, которого вы поздравляете с тем, что он выжил, — и есть придурок. Или был им большую часть срока. Потому что лагеря — истребительные, этого не надо забывать.
На языке той, другой концентрационной вселенной придурки — это заключенные, которые тем или иным способом добились привилегированного положения, те, кто у нас назывался «prominenti»[27].
Мы, кого судьба пощадила, пытались рассказать не только про свою участь, но, с большей или меньшей степенью достоверности, про участь тех, канувших; только это были рассказы «от третьего лица», о том, что мы видели рядом, но не испытали сами. Об уничтожении, доведенном до конца, завершенном полностью, не рассказал никто, потому что никто не возвращается, чтобы рассказать о своей смерти. Канувшие, даже если бы у них были бумага и ручка, все равно не оставили бы свидетельств, потому что их смерть началась задолго до того, как они умерли. За недели, месяцы до того, как потухнуть окончательно, они уже потеряли способность замечать, вспоминать, сравнивать, формулировать. Мы говорим за них, вместо них.
Я не могу объяснить, что заставляло и заставляет нас это делать: то ли своего рода моральное обязательство перед теми, кто умолк навсегда, то ли, напротив, желание освободиться от воспоминаний о них; в любом случае, это сильное, настойчивое чувство. Не думаю, что психоаналитики (с профессиональной жадностью бросившиеся распутывать наши импульсы) способны объяснить это чувство. Их знания накапливались и проверялись «по другую сторону», в мире, который мы для простоты называем «цивилизованным», где все отклонения рассматриваются в рамках одной методологии и лечатся по одной схеме. Объяснения психоаналитиков, даже таких, как, например, Бруно Беттельхайм, который сам прошел испытание лагерем, кажутся мне приблизительными и упрощенными; их можно сравнить с попыткой использования планиметрических теорем при изучении сферических треугольников. Умственные механизмы хефтлингов[28] были иными, чем у людей «цивилизованного мира»; возможно, это покажется странным, но их философия и патология тоже были иными. В лагере никто не простужался и не болел гриппом, зато иногда скоропостижно умирал от таких болезней, которые никогда не изучались на медицинских факультетах. В лагере излечивались (или меняли симптоматику) язвы желудка и умственные расстройства, но все страдали от неотступного недуга, лишавшего сна и не имевшего названия. Считать его «неврозом» недостаточно, даже просто смешно. Может быть, точнее было бы назвать его атавистической тоской, которой пронизан второй стих Книги Бытия;[29] это сидевшая в каждом тоска «тоху вавоху»[30], тоска пустынной, необитаемой вселенной, подвластной духу Божьему, но где нет человека: он или еще не родился, или уже умер.
Существует стыд и в более широком смысле, стыд мировой. Здесь уместно привести знаменитые и бесчисленное количество раз, к месту и не к месту, повторенные слова Джона Донна[31] о том, что «нет человека, который был бы как остров», — похоронный колокол звонит по каждому из нас. Тем не менее человек подчас отворачивается от чужой и своей вины, не хочет ее замечать, устраняется; так поступала большая часть немцев в течение двенадцати лет гитлеровского правления, обманывая себя, будто тот, кто не видит, тот не знает, а кто не знает, с того и спросу нет, того не обвинишь в попустительстве. Но щит добровольного неведения, partial shelter [32] Т.С. Элиота[33] был не для нас, мы не могли не видеть. Море страданий, прошлых и настоящих, окружало нас, с каждым годом прибывая и прибывая, готовое поглотить и нас. Бесполезно было закрывать глаза или отворачиваться, потому что оно было везде, со всех сторон, до самого горизонта. Мы не могли и не хотели быть островами; самые праведные из нас, — а таких было не меньше и не больше, чем в любом человеческом сообществе, — испытывали муки совести, боль, стыд за вину, которая лежала на других, не на них, но к которой они считали себя причастными, поскольку понимали: происходящее вокруг них, при них и в них — неотвратимо. Его никогда уже не смыть, оно доказывает, что человеческий род, человек, а значит, и мы потенциально способны создавать неисчислимое количество горя, и это горе — единственная сила, которая вырастает из ничего, сама по себе, без усилий. Достаточно лишь не видеть, не слышать, не делать.
Часто спрашивают, как будто наше прошлое сделало нас пророками, повторится ли Освенцим, то есть заработает ли снова машина смерти, начнутся ли по воле каких-то властей систематические массовые убийства невинных и беззащитных людей, узаконенные доктриной презрения. Мы, слава богу, не пророки, но нам есть, что сказать. И о похожей, почти не замеченной на Западе трагедии, которая произошла в середине 70-х в Камбодже. И о том, что немецкие массовые убийства смогли вспыхнуть и разгореться из — за неудержимого стремления к порабощению, из-за душевной нищеты и в силу соединения нескольких обязательных фактов, каждого из которых в отдельности было бы недостаточно (состояние войны, технические достижения, германская организованность, воля и дьявольская харизма Гитлера, отсутствие в Германии укоренившейся демократии). Эти факты могут снова повториться и уже повторялись в разных частях мира, но точное повторение тех же фактов в той же комбинации через десять или двадцать лет (о более далеком будущем говорить нет смысла) маловероятно, но не невозможно. С моей точки зрения, массовые убийства не могут повториться ни в западных странах, ни в Японии, ни даже в Советском Союзе: лагеря Второй мировой войны еще живы в памяти многих, как простых людей, так и власть имущих, а это своего рода иммунная защита, что во многом сродни стыду, о котором я говорю.