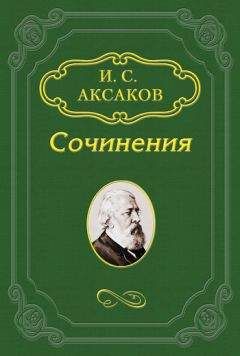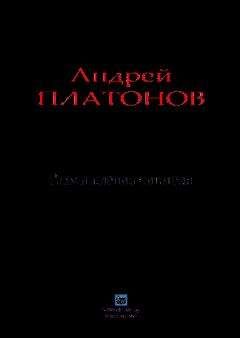Иван Кашкин - Для читателя-современника (Статьи и исследования)
Задача рассмотрения стиля Хемингуэя - дело на первый взгляд настолько самоочевидное и ясное, а на поверку такое сложное и неуловимое, что к задаче этой подходишь и раз и два и, с каждой попыткой задевая все выше поднимающуюся планку, обращаешься за помощью к самому автору, к тому, что сам он говорит о своем стиле.
Для того чтобы точнее уяснить особенность стиля Хемингуэя, посмотрим, к чему сознательно стремился и чего в этом отношении достиг Хемингуэй, который не переставал учиться своему делу до самой смерти.
Восхищение и неуместное "технологическое" подражание вызвала та манера, с которой дебютировал молодой Хемингуэй в своих ранних рассказах. Нет сомнения, что без блестящих экспериментальных этюдов, вроде "Кошки под дождем" и "Белых слонов", может быть, и не проклюнулось бы дарование Хемингуэя, но ценим мы стилиста Хемингуэя вовсе не только как юношу-экспериментатора, а как зрелого мастера.
Когда сам Хемингуэй вспомнил еще не преодоленный им в первых книгах телеграфный язык, стучащие ремарки (я сказал, он сказал), наигранную мальчишескую грубоватость и такие же тяжеловесные шутки (не говоря уже о прямом подражании Г. Стайн и Ш. Андерсону), он сказал в интервью 1958 года: "Я старался возможно полнее показывать жизнь как она есть, а это подчас бывает очень трудно, и я писал нескладно - вот эту нескладность и объявили моим стилем. Ошибки и нескладица сразу видны, а они это назвали стилем". А подражатели "схватывают только поверхностные и явные дефекты моей манеры, то, как мне самому не следовало бы писать, и ошибки, которых я не должен был бы делать. Они неизменно упускают главное, точно так же, как и многие читатели запоминают меня большей частью по моим дефектам".
И действительно, приглядываясь к эволюции творчества Хемингуэя, видишь, как небрежная спешка телеграфного языка рано сменилась отточенным лаконизмом, непроизвольная нескладица - намеренной угловатостью, когда этого требует определенная речевая характеристика. Мастер больше не щеголял своей ученической корявостью, а когда надо - ссужал ее своему герою, если тот был на самом деле коряв.
Много толкуют о какой-то особой, хемингуэевской "теории айсберга". Слов нет, у Хемингуэя это очень удачная образная формулировка, и важно то, что он не только сформулировал, но и творчески осуществлял одно из вечно новых требований реалистического искусства - строгий, сознательный отбор, этот ведущий принцип реализма. Это Хемингуэй воспринял у своих великих учителей Стендаля, Толстого, Флобера. Настоящий художник-реалист из массы тщательно освоенного материала, из вороха эскизов, из тысячи тонн словесной руды отбирает только самое характерное, самое существенное, даже не одну восьмую айсберга, а, может быть, одну тысячную большой горы. А до конца договаривать все важное и неважное - это обыкновение писателя-натуралиста. И стиль Хемингуэя в данном смысле - ото неповторимое, выстраданное им умение мастерски пользоваться методом реалистического отбора. А глубина перспективы, масса семи восьмых погруженной части айсберга определяют и обеспечивают ту дорогую содержательную простоту, которая ничего общего не имеет с дешевым примитивом поверхностной простоватости.
Значит, дело тут не в новизне как таковой. Ведь вот что писал Голсуорси о Чехове: "О рассказах Чехова можно сказать, что у них как будто нет ни головы, ни хвоста, что они, подобно черепахе, сплошная середина. Однако многие, кто пытался ему подражать, не понимали, что головы и хвосты лишь втянуты внутрь, под панцирь". И действительно, достаточно вспомнить хотя бы чеховскую "Ведьму" - о почтальоне, завернувшем зимнею ночью в глухую кладбищенскую сторожку, и о его неудавшемся ухаживании за дьячихой. Но ведь это лишь фактический костяк рассказа, а суть его в том, что для мужа дьячихи случай этот - последний толчок, который окончательно убеждает его, что жена действительно ведьма, и только усиливает его влечение к этой загадочной женщине. А для дьячихи этот случай - последняя капля, которая переполняет чашу и делает для нее совершенно невозможной тянуть дольше опостылевшую жизнь с мужем. Почтальон уехал ни с чем. Рамки рассказа замкнуты. Выводы вынесены за его пределы. Рассказ кончен, но читатель может ясно себе представить дальнейшую судьбу этого супружества, расшатанного скукой совместного житья-бытья. Что бы ни случилось - счастью не бывать. И все это проходит под видимой поверхностью. Так что айсберг давно плавает в океане большой литературы.
Хемингуэй, например, в рассказе обычно сразу выделяет основную ситуацию и чаще всего ограничивает себя во времени - "сиюминутошным сейчас". Хемингуэй годами идет рядом со своими героями, но в его произведениях люди приходят неизвестно откуда, как бы из тьмы, и уходят в ночь под дождь или в смерть. В этом выключении из времени, календарного, а также исторического, в уходе героя в переживания данного момента таится опасность ослабления связи с обществом и самоизоляции. Но Хемингуэй, когда он забывает о своих декларациях, слишком верный соратник, слишком дорожит действием и возможностью помочь, приложив свою силу, чтобы всецело поддаться этой опасности. Немногие узловые моменты выхвачены как короткими вспышками прожектора, направленного на ринг или на "ничью землю". Но автор показывает своих героев в минуты наивысшего напряжения, борьбы или переживаний, когда раскрывается все - и лучшее и худшее в них. А с творческой стороны за счет этого уплотнения времени достигается емкость и насыщенность повествования.
При таком подходе даже в самом точном описании отпадает необходимость исчерпывающей полноты деталей и "кажется, что все можно уложить в один абзац, лишь бы суметь". Как говорит об этом сам Хемингуэй: "Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и, если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом". И тут же делает оговорку: "Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места".
По отношению к Чехову или Толстому никто не говорил о "теории айсберга". Но у них учились, сознательно или бессознательно. Однако дело в том, что четкость детали чеховской прозы, аналитическую глубину Толстого, недосказанность чеховской драмы Хемингуэй претворяет так, что заставляет воспринимать все это как свое, хемингуэевское. Вместе с тем эта "поэтика черепахи" или "теория айсберга" у Хемингуэя вовсе не догматична. Когда надо, он рассказ о сиюминутошном подкрепляет реминисценциями и писателя Гарри, и Джордана. И этой теории вовсе не противоречит обычный, обыденный фон, он только подчеркивает по контрасту напряженность основного действия.
Хемингуэй много раз говорил, что писать надо лишь о том, о чем никто еще не писал. Или если уж взялся за эту же тему - написать об этом лучше своих предшественников. Примером может служить "И восходит солнце". Хемингуэй не первым взялся за тему потерянных людей, и до него писали об этом Фицджеральд и Майкл Арлен, но лишь в "И восходит солнце" кристаллизовались мысли и речь людей потерянного поколения.
Закреплять писателю надо не то, что принято видеть, и не так, как принято описывать, а то, что сам он видел и пережил, и так, как сам понял. Это определяет круг тем - война, охота, спорт, и круг персонажей - солдат, репортер, спортсмен, охотник, вообще человек действия, и, наконец, самый характер изображения и повествования - прямого, сжатого, энергичного. Добиваясь непосредственного видения, Хемингуэй старается писать без всякой предвзятости и как можно конкретнее о том, что действительно чувствуешь: писать, закрепляя сами по себе факты, вещи и явления, которые вызывают испытываемое чувство, и делать это так, чтобы, перефразируя слова самого Хемингуэя, суть явлений, последовательность фактов и поступков, вызывающих определенные чувства, оставались для читателя действенными и через год, и через десять лет, а при удаче и закреплении достаточно четком - даже навсегда. Художнику надо не формулировать, не описывать, а изображать, то есть вооружать и направлять восприятие и воображение читателя.
Но это тоже наследие великих реалистов, передаваемое как эстафета вплоть до наших дней. "Когда Кирилл перешагнул через порог своего нового обиталища (карцера), у него стало саднить в горле, будто он проглотил что-то острое" 1. И все. Но читатель и без описания всех мерзостей этой тюремной клоаки может представить себе, почему у Кирилла Извекова саднит в горле. Значит, дело действительно в мере воздействия на читателя, а не в мере дотошной описательности в самом тексте.
1 К. Фeдин. Первые радости. - Ред.
"Если вместо того, чтобы описывать, ты изобразишь виденное, ты можешь сделать это объемно и целостно, добротно и живо. Плохо ли, хорошо, - но тогда ты создаешь. Это тобой не описано, а изображено". И читатель должен сам почувствовать и пережить то, что хотел выразить автор. А Хемингуэй, по его словам, хочет выразить правду жизни и действительности так, чтобы она вошла в сознание читателя как часть его собственного опыта. И при этом минимум авторской навязчивости. Отказ от объяснительных эпитетов и метафор.