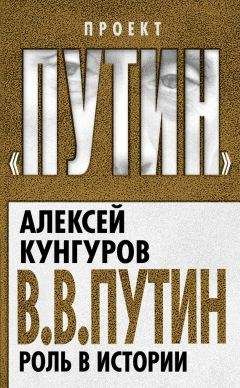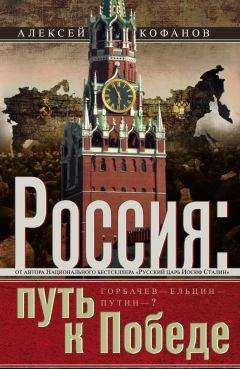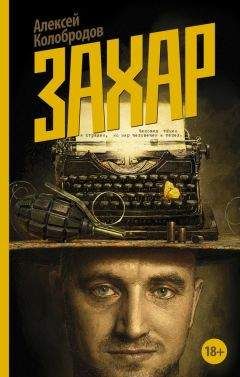Алексей Колобродов - Культурный герой. Владимир Путин в современном российском искусстве
«— Так как, Платон Михайлович?
— Никак, Федор Федорович. Вы же сказали — ультиматум. Я все понял. Вы что хотите, чтобы я сказал? Что мне ваш ультиматум ужас как нравится? Ультиматум никогда в жизни никому не нравился. И не понравится. Его либо принимают, либо нет.
— Так принимаете?
— Вы хотите, чтобы я вам прямо сразу сказал? Прямо сейчас? Так это тогда уже и не ультиматум вовсе. Это тогда по-другому называется, Федор Федорович. Знаете такое слово — наезд?
(…)
— Хотите повоевать, — с тихой угрозой констатировал Федор Федорович. — Ну что ж. Я в общем-то готов. На пару минут буквально попрошу вашего внимания.
Он раскрыл серую папку, перевернул несколько листов и стал, не поднимая глаз, монотонно читать».
Читает Федор Федорович так называемую «оперативную информацию»: организованное преступное сообщество, хищения, контрабанда, особо крупные, отмывание, далее — убийства и т. д. Финал разговора:
«— Достаточно? — спросил Федор Федорович, оторвавшись от бумаг.
Платон кивнул.
— Не хватает кое-чего. (…) Вы бы им подсказали, Федор Федорович. Если они этим займутся, вы лично вполне ценной информацией могли бы поделиться. Если, конечно, решат вас допросить. И еще. Хотелось бы на последнюю страницу взглянуть, там, где подпись. Под этой бумажкой не Василий ли Иннокентьевич Корецкий, ваш покойный коллега, подписался?»
А вот цитата из «Олигархов» Хоффмана, беллетристики ноль:
«„А теперь я должен кое-что сказать тебе“, — сказал Путин. Он открыл папку и начал монотонно читать. Березовский не помнил точных слов, но суть сводилась к тому, что ОРТ коррумпировано и управляет им только один человек, Березовский, взявший все деньги под свой контроль.
Березовский вспомнил о своем злом гении, о Примакове. Документ был явно подготовлен в рамках кампании, проводившейся против него в прошлом году Примаковым. Это задело Березовского. „Там внизу стоит подпись Евгения Максимовича Примакова? — спросил Березовский Путина. — Зачем ты мне это читаешь?“».
У Хоффмана, то есть в реальности, Березовский не столь прям и саркастичен. Во всяком случае бесшабашно-швейковского «Ну что ж, повоюем!» точно не звучало.
* * *Между прочим, в трилогию к Дубову просится фильм Павла Лунгина «Олигарх», хотя сам писатель имел к знаменитому кино отношение скорее опосредованное. (При этом в «Меньшем зле» он цитирует, не без легкой иронии, некоторые придумки сценаристов.) Лунгин, с его безошибочной установкой на культурно-конъюнктурный мейнстрим, не столько легализовал олигархов в качестве киногероев, сколько «разложил по понятиям» дубовскую философию самооправдания, о которой чуть ниже. Опираясь на клише, с которым массовый зритель успел сродниться: «богатые тоже плачут».
С этим кино — вообще забавная коллизия, иллюстрирующая условность российской цензуры и весь ненамеренный постмодерн взаимоотношений искусства и власти. Авторы фильма накануне его выхода в прокат пытались пиариться на скорых и как бы само собою разумеющихся запретах. Преследования много лет как запаздывают: «Олигарх» вслед за широким прокатом пару раз в год демонстрируется по самому что на есть Первому каналу (привет бывшему владельцу), причем в дни государственных праздников.
Лунгин, разумеется, хеджировался — Федора Федоровича в его фильме практически нет, портретных сходств тоже, Коржаков спрятан в бане среди голых генералов и т. д. Тем не менее кошмарят Платона (который обрел в фильме собирательную фамилию «Маковский») спецслужбы и Кремль, что, естественно, одно и то же. И не волей пославших, а токмо корысти ради…
Власть, однако, в очередной раз демонстрирует не то чтобы отсутствие своего контроля над сферой искусств, но полную для себя несерьезность этой сферы.
Интеллигентный же зритель, тоже привычно, заключил: «Книга лучше, чем фильм». Дубовско-лунгинская философия прошла под лейблом «Однажды в России» (весь набор из мужественности и сентиментальности), а дальше предлагалось вновь восхищаться исторической достоверностью и точностью деталей.
Лунгин, отказавшись от многих принципиальных линий «Большой пайки» (в фильме «декораций» почти не пишут, а если всё же пытаются, то отталкиваются не от литературной, но от фольклорной первоосновы — анекдотов про «новых русских»), тем не менее сделал большое дело. То самое, которое не вышло у Дубова: режиссер наконец отделил киногероев от реальных прототипов.
Проще говоря, серой Березовского в фильме почти не пахнет, инфернальности ноль. Даже сохранившиеся пропорции тандема ассоциаций не вызывают, при том что второй главный герой — тоже грузин (актерская работа Левана Учанешвили — главная удача фильма). Скорее, это тоже работает на тенденцию и унификацию. Лидеры бизнес-сообществ эпохи первоначального накопления нередко делали жизнь с персонажей мафиозных эпосов. В которых специально оговаривалось: consigliori не обязательно должен быть сицилийцем и при Лаки Лучано вполне может состоять Майер Лански. В России-то как раз бывало чуть ли не наоборот: у многих славян — лидеров ОПГ в первых помощниках ходили кавказцы (евреи в особо продвинутых случаях). Так, у знаменитого саратовского, выражаясь подубовски, курбаши Игоря Чикунова (Чикуна, верхушка банды которого вместе с лидером была уничтожена в ходе массового расстрела в 1995 году) правой рукой состоял некий Эрик Багратуни.
Освобожденная от тревожащего присутствия прототипов атмосфера фильма призвана была реабилитировать крупный капитал. К реальному Березовскому публика относилась вполне однозначно, выдуманного Маковского готова была сначала полюбить, а потом понять и простить. В кино теодицея выстраивается проще — многая мудрости без надобности, достаточно актерского обаяния. И отличный Владимир Машков с обаянием даже пережимает: прыгает через огонь, патетически шепчется, выразительно тоскует по Родине, прекрасно играет на бильярде… А для пущей народности даже хлещет водку из горла и не очень убедительно изображает неудачливого любовника. (Последнее, кстати, основательно задело Бориса Березовского, который в устной рецензии посетовал, что трахаются в фильме неубедительно.).
Словом, Павел Лунгин заставил полюбить своих героев «черненькими». При этом процесс не был изнурительным отмыванием добела черного кобеля, скорее режиссер заранее договорился со зрителем, будто киношная «чернота» — всего-навсего грим романтического злодея. Под которым — приятная внешность и чистая душа. А что олигархи… Ну повезло парням. Работали много. И заработали.
Литература — честнее по определению, и Юлий Дубов, разворачивая панораму мощной экспансии, безжалостной к чужим и граничащей с предательством в отношении своих, на голом обаянии не спекулирует (разве что простительную малость), пытаясь откровенно ответить (в том числе самому себе) на простой и проклятый вопрос — а ради чего, собственно, это всё было?
(«Мы были, были!» (Михаил Веллер) — один из эпиграфов к «Большой пайке». Дубов вообще очень литературен, помешан на эпиграфах — шаламовский афоризм «В лагере убивает большая пайка, а не маленькая» — един для всех трех его романов).
* * *Здесь я вынужден продолжить темой для меня трудной и в общем несвойственной — моралью. Выставлять баллы за поведение — явно не мой профиль, для этого занятия нужно иметь либо схожий с персонажами опыт, либо харизму и отвагу бытового пророка. Ну и определенную, пусть и декларативную, девственность во всех делах этих скорбных. А лучше всё вместе. Решаюсь на такой поворот я только в случае необходимости. В беседах об «олигархической литературе» она переходит в неизбежность.
* * *Проницательный критик Виктор Топоров в посвященной «Большой пайке» статье «Гибель богов, или Золото матушки Волги» пытается разобраться в мотивациях Дубова-писателя.
«Отбросим мотивы заведомо невероятные: ради гонорара, из желания укрепить свою репутацию в деловых кругах или, напротив, из мазохистского стремления ее разрушить; отбросим мотивы мести и славы — не так на этом уровне мстят и не писательской славы ищут. Хотя зуд писательства как побочный фактор отбрасывать все же не стоит. (…)
Единственным правдоподобным мотивом написания „Большой пайки“ является стремление объясниться с миром, причем в первом лице множественного числа: вот мы какие! Здесь мы стоим, и не могем иначе! Объясниться, по возможности оправдаться (ничего, однако же — но тоже только по возможности, — не приукрашивая и не пропуская), но заодно и возвыситься в наших глазах (а уж в собственных — и подавно)».
Виктор Леонидович, на мой взгляд, справедлив несколько абстрактно — в последнем пассаже и в полемическом задоре теряя твердое дно романного текста. Чего-чего, а грубого самодовольства победителей у Дубова явно не просматривается, он меньше всего напоминает счастливого сверхчеловека — отнюдь не ницшеанское упоение, но экклезиастова горечь преобладает в его интонации. Он прекрасно понимает, что моральные претензии по адресу его героев вполне имеют место быть. Потому, уже в «Меньшем зле», охотно вступает в перекличку с рецензией Топорова.