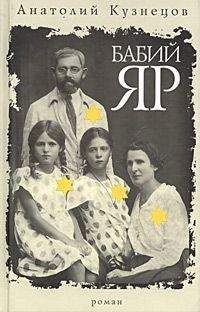Валентина Полухина - Иосиф Бродский. Большая книга интервью
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ САНТИМЕНТЫ — САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ ДЕЛО НА СВЕТЕ
Людмила Болотова и Ядвига Шимак- Рейфер
Журнал "Przekroj", № 27, 4 июля 1993 года
В молодости вы читали "Пшекруй". Сегодня еженедельник приходит к вам. Что бы вы хотели сказать читателям и редакции нашего журнала?
Прежде всего я рад, что он существует. Читателям мне сказать нечего, а журналу я ужасно благодарен. В довольно скверные времена половину современной мировой литературы я узнал из "Пшекруя". Я его читал в диковатом месте на Севере. Когда меня сослали на Север в 1964 году, Наталья Горбачевская мне систематически присылала свою подписку "Пшекруя". Это была большая поддержка.
Что побудило вас принять приглашение Силезского университета и приехать сюда, в Катовице?
Ну, вы знаете, когда вам предлагают почетный докторат, от этого отказываться следует только в случае, если ты болен. В тот момент я не был болен. Во-вторых, Польша мне дорога. В-третьих, мне особенно приятно было принять этот докторат именно в Силезии, потому что это центр не культурный, а промышленный, и я думаю, что от этого будет польза кому-нибудь.
Ваши впечатления от встречи с читателями в Катовице, в Силезасом университете?
Впечатление очень сильное и пугающее, на самом деле. Эта степень интенсивности положительных чувств по отношению к моей персоне… С этим довольно трудно справиться. Положительные сантименты — самое тяжелое дело на свете. С ненавистью легко справляться. С любовью гораздо хуже, гораздо тяжелее, т. е. надо чем-то платить, и этих пропорций, этого количества я совсем не в состоянии создать. Кроме того, что меня более всего, я полагаю, потрясло, это было вчера вечером в театре. Я туда пришел, когда актеры читали мои стихи. Было совершенно поразительное ощущение, что я как будто вошел в свою жизнь. Когда вы пишете стихи, вы не особенно думаете об их содержании, вы знаете их содержание, а ваша главная забота — прежде всего — это формальный аспект, как бы сделать получше, т. е. до известной степени вы забываете о содержании. И это внимание, которое вы уделяете форме, оно заставляет вас думать о себе как о человеке, как бы это сказать, будто постепенно теряющем человеческий облик, становящемся все более если не машиной, то, по крайней мере, чем-то ложным, чем-то фальшивым, и вы не слышите своих собственных произведений. Вы их написали, вы о них забыли. И вот ощущение, когда ты видишь людей, т. е. когда эти стихи становятся людьми, т. е. когда становятся человеческими голосами. К этому следует добавить еще и то, что большинство актеров были молодыми. И это производит на вас впечатление абсолютно убийственное, т. е. этого выдержать невозможно, как будто ты действительно существуешь и все твое прошлое к тебе возвращается, т. е. возвращается именно с идентификацией в форме молодых лиц, т. е. как будто все это правда, и не знаю, как мне на это реагировать. Я спросил Богдана Тору: "Со robic teraz?" [Что мне теперь делать?] Тоша сказал: "Вус". [Быть.] Это было очень сильное, может быть самое сильное, впечатление моей жизни. Их было два: одно, когда я узнал, что поэт, к которому я очень хорошо относился, великий английский поэт Оден, пишет предисловие к моей книжке. Это было, я полагаю, в 1970 или 1971 году. И потом, когда я получил Нобелевскую премию в 1987 году, это было в тот день, когда я поехал в Лондон на Би-би-си, чтобы сказать несколько слов читателям в России. На радиостанцию позвонил человек, говорящий по-польски. Меня позвали к телефону. Выяснилось, что это был Витек Ворошильский. Он как раз гостил у Лешека Колаковского. Он говорит: "Я тебя поздравляю, кроме того, говорит, благодарю тебя за стихотворение, которое ты написал для меня с Дравичем". Я говорю: "Какое стихотворение?" А он говорит: "Koleda stany wojennego" [A Martial Law Carol]. A, это, я говорю, это не важно, а он говорит: "Ты говоришь "не важно", ты просто не понимаешь, как это все вовремя приходит". Это стихотворение, которое я написал по-английски, кто-то вырезал из газеты и подсунул им под дверь камеры, где они сидели. Я говорю совершенно без рисовки: это произвело на меня куда более сильное впечатление, чем Нобелевская премия и все с этим связанное. А третье среди этих событий, и последнее, если мне вспоминать, что произошло в жизни из того, что тебя переворачивает, это вчера, в этом самом театре Выспянского.
Можно ли вам задать личный вопрос: мы знаем, что у вас совсем недавно родилась дочь, и хотим вас поздравить…
Спасибо.
…и спросить, почему вы ее назвали Анна Александра Мария?
Анна — это в честь Анны Андреевны Ахматовой, Александра — в честь моего отца, Мария — в честь моей матери и в честь моей жены, которую тоже зовут Мария.
Какая живопись может быть для вас источником творчества?
Я обожаю живопись. Мне больше других всю жизнь, то есть не всю жизнь, а в разные периоды, дороже всех итальянцы; я думаю, Джованни Беллини и Пьеро делла Франческа. В двадцатом веке мне ужасно нравится, может быть больше других, французский художник Вюйяр. Боннар тоже, но Вюйяр гораздо больше. Из русских — никто из русских мне в голову не приходит: как раз нравится масса, но что мне дороже прежде всего, чтобы я от кого- то внутренне как-то зависел, кто вызывал бы инстинктивную реакцию, этого нет.
Было такое предположение некоторых критиков о влиянии Рембрандта.
Но это неизбежно, конечно. Вот в "Сретенье", например, там даже такой рембрандтовский ход с этим лучом и т. д. Но это в общем происходит бессознательно.
Ваше любимое время года?
Я думаю, что все-таки зима. Если хотите знать, то за этим стоит нечто замечательное: на самом деле за этим стоит профессионализм. Зима — это черно-белое время года. То есть страница с буквами. Поэтому мне черно-белое кино так нравится, знаете.
Поэтому столько черно-белых красок в стихах? Особенно в ранних?
Ну, наверно, да. Но тут все что угодно можно вместить. Тут и определенного времени протестантизм, т. е. кальвинизм.
Как вы смотрите на сегодняшнюю ситуацию и как считаете: есть ли для России шанс выхода из этого мрака?
Конечно, есть. Да он уже используется, этот шанс. Это великая страна, с многочисленным населением, и она справится, она выберется из всего этого. Бояться, опасаться за Россию не нужно. Не нужно бояться ни за страну, ни за ее культуру. При таком языке, при таком наследии, при таком количестве людей неизбежно, что она породит и великую культуру, и великую поэзию, и, я думаю, сносную политическую систему, в конце концов. На все это, разумеется, уйдет довольно много времени, особенно на последнее, на создание политической культуры. Я боюсь, что на это уйдут десятилетия, то есть ни вы, ни, во всяком случае, я этого не увидим, но не следует думать о будущем в идеальных категориях. То есть это будет система, при которой какое-то количество людей, какой-то процент будет находиться в менее благополучных обстоятельствах, а какой-то процент в более благополучных обстоятельствах. Но возвращение к тому, что было, невозможно, это процесс необратимый, при всем желании, при всей энергии тех людей, которые хотели бы вернуть Россию к системе централизованного государства, это исключено. Больше там никто никогда ни с чем не согласится, единогласия там больше никогда не будет. Это самое главное. Разногласия и есть синоним демократии на самом деле. Разноголосица будет грандиозная. Но это и есть демократия. В случае с Россией мы сталкиваемся с буквальным воплощением демократии, если хотите. Не с идеальным, афинским вариантом. Афины был маленький город. Это великая страна.
ВЛАСТЬ ПОЭЗИИ
Беседа Иосифа Бродского с Дереком Уолкоттом
Печатается впервые
Лауреаты Нобелевской премии Иосиф Бродский (1987) и Дерек Уолкотт (1992) встретились 9 сентября 1993 года на Гетеборгской книжной ярмарке, чтобы поговорить о поэзии и ее взаимосвязях с языком, пространством и историей. Вел встречу шведский писатель и журналист Пер Вестберг.
Поэты, опираясь на благоприобретенный обоими инструмент английского языка, начали с обсуждения роли языка в поэтической композиции и того, в какой степени "язык олицетворяет цивилизацию". "Куда ни повернись, как выбрать между этой Африкой и любимым мной английским?" (Дерек Уолкотт).
Бродский: Каждому из нас, в сущности, язык, на котором мы пишем, дал нашу реальность. Он дал нам даже нашу индивидуальность — в противном случае мы бы до сих пор определяли себя в категориях одной из политических, религиозных либо географических систем верований. Задача человека прежде всего в том, чтобы понять, что он такое. Первый его заданный себе самому вопрос должен касаться не того, американец он, итальянец, швед, швейцарец или японец; не того, верит ли он в Бога и какой философии придерживается. Вопрос таков: труслив я или, может быть, храбр, честен или бесчестен я с людьми, как я обхожусь с противоположным полом? Он должен определиться в более точных категориях — категории, соотносящиеся с религией, нацией, культурой, довольно расплывчаты. Ничто не поможет ему определить себя лучше, чем собственный язык. Если у меня есть относительно себя некоторая ясность, то лишь потому, что я знаю, что хорошо пишу на своем языке. Слова, которыми я пользуюсь, не вводят меня в заблуждение, и, предположительно, используя эти слова, я не обманываю кого-либо другого.