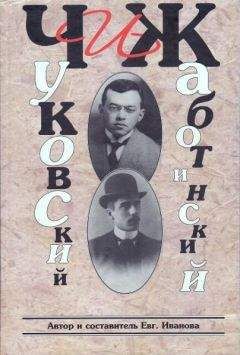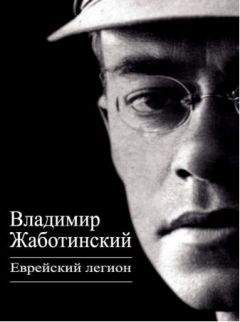Моше Бела - Мир Жаботинского
Жаботинский признавал, что, в конечном счете, «антисемитизм обстоятельств» коренится в субъективном факторе — в людях. Результатом трезвого наблюдения был вывод, что враждебное отношение к евреям — это своего рода душевная болезнь. В принципе, можно обезвредить проявление ее острых форм. Но сама болезнь — неизлечима:
Антисемитизм людей — это активная позиция, постоянно ощущаемая потребность вредить ненавистной расе, унижать ее, втаптывать в грязь. Ясно, что такой агрессивный, садистский настрой не будет постоянно царить в обществе, постоянно находиться на точке кипения у каждого члена общества. Неизбежно он будет знать лучшие и худшие времена, всплески и спады, и даже в моменты своего буйного торжества он проявляется в крайней форме у меньшинства — у вожаков и зачинщиков. Большинство же идет вслед за ними и радуется потехе. И так как «людской антисемитизм» гибок, иногда можно в борьбе с ним добиваться локальных побед. Так, например, можно предположить, что немцы — народ, известный своей удивительной способностью к общественной дисциплине, доходящей до гениальности,— уменьшат свой антисемитский пыл — когда им это прикажут...
Кажется, есть нечто патологическое в вулканическом клокотании этой ненависти. Как бы ни было обострено чувство расового превосходства, каковы бы ни были «преступления» евреев, все равно не хватит их на такую меру ненависти. И само собой закрадывается подозрение, что подсознательная природа этого — не только «антипатия», но и «симпатия» — как у патологических садистов. Определяющая черта такой слепой вулканической ненависти — неприятие сионизма и сходных с ним течений. С точки зрения логики, немцы должны были бы всячески поддерживать сионизм, поддерживать любое движение, стремящееся вывести евреев из Германии. А на деле они поддерживали, более чем любое другое правительство, антиеврейские беспорядки в Эрец Исраэль. Ясно, что если бы вместо Эрец Исраэль местом национального убежища для евреев объявили Уганду, или Анголу, или Минданао, нацисты действовали бы точно так же. Садист не хочет лишиться своей жертвы. Библейский рассказ об Исходе из Египта стал первым письменным свидетельством борьбы этих двух начал: стремления избавиться любой ценой от ненавистного племени и стремления в то же время не выпускать его.
Из кн. «Фронт борьбы еврейского народа», 1940.И от классического описания «субъективного» антисемитизма Жаботинский переходит к антисемитизму «объективному», который он пытается осмыслить как, в известной мере, проявление человеческой природы:
Цель автора — выявить болезненную и вечно изменчивую природу явления, которое он называет «антисемитизмом людей» и которое не следует смешивать с «антисемитизмом обстоятельств». Последний — неизменен, вечен — и поэтому наиболее страшен. Источник последнего — в инстинктивном чувстве неприязни каждого нормального человека к «чужакам», к «не своим». Это даже не ненависть. И не обязательно это идет от гордыни. Это чувство может спать в человеке долгие годы, оно может не проявляться в обществе поколениями. Но оно проснется в момент, когда «будет что делать». Когда надо будет сделать выбор между «своими» и чужаками. Тогда проснется инстинкт самосохранения. Но даже и тогда оно вовсе не обязательно разгорится буйным всепожирающим пламенем (хотя может и разгореться). Возможно, внешне оно будет беспощадно. Здесь важна не форма, а суть. Эта суть — неистребимое сознание, укоренившееся в сердце каждого нееврея, что его сосед — еврей — «чужой». Это сознание само по себе вреда не приносит. Оно не вредит ни добрососедству, ни взаимопомощи, ни даже дружбе, пока «общественный климат» тих и спокоен. В «климате», царящем сейчас в Восточной Европе, оно переросло в тотальное убийство евреев.
Там же.Жаботинский считал необходимым объяснить, главным образом соотечественникам, почему «общественный климат» в Восточной Европе привел к массовому истреблению евреев. Он описал невообразимый процесс механизации сельского хозяйства и промышленности, ведущий к появлению массы безработных в городах, что, в свою очередь, ведет к росту конфронтации среди «среднего класса» и интеллигенции, среди которой традиционно было много евреев (они составляли 30% городского населения Польши). Результат: всеобщая борьба за «место под солнцем»:
Борьба за «места» неслыханно обострилась, и обостряется с каждым днем. Каждую секунду кто-то, для кого не хватило места, фатально должен выпасть за борт. И столь же фатально первой жертвой является всегда еврей.
Повторяю: «фатально». Ту человеческую черту, что в беде всегда пожертвуют «чужим», а не «своим», я считаю такой же стихийной частью мирового порядка, как холод зимою и летом жару. Это очень непохвальная черта, постыдная, звериная; будь я на месте Господа Бога, я бы создал мир совсем по-иному и такой черты никогда бы не допустил. Но она есть; и она есть у всех — у евреев тоже; и она неискоренима.
Еврейское государство, рукопись, 1936.И раз невозможно искоренить это свойство, неизбежно несущее горе и саму смерть евреям в галуте, становится очевидным, что единственный выход — обеим сторонам окончательно разойтись. К обоюдной пользе.
Это не борьба, не травля, не атака: это — безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента. В разных профессиональных сферах оно разно проявляется. В сфере литературно-художественной, с которой у нас «началось», оно приняло бы форму такого рассуждения: я пишу свою драму для своих и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои и критику писали свои. Этак мы лучше поймем друг друга.
«Дело Чирикова», «Фельетоны», 1913.Активизм
«Куйте железо!»
Эта черта — вечное беспокойство, непрерывное действие — была присуща Жаботинскому на протяжении всей его жизни. С приближением страшной Катастрофы Жаботинский неустанно искал пути спасения своих братьев. Но и за 35 лет до того, когда он был еще сионистом-пропагандистом (Жаботинский отвечал за сионистскую агитацию в пределах Российской империи), он решил для себя, что сионизм — это не только устремление души, но, прежде всего, дело, живое дело, требующее от человека полной отдачи.
На празднике Песах в 1905 году 25-летний Жаботинский обратился к современникам, призывая их внять зову истории — взяться за дело освобождения еврейского народа:
Я никогда не был пай-мальчиком и никогда не удостаивался задавать четыре вопроса[*]. Но и я спрашивал старших — спрашивал многожды — и не добился ответа. И нетрудно угадать, что настанет и мой час и поседеет и моя голова. И все мы — черноволосые ныне — поседеем. И настанет Песах, и наши внуки посмотрят нам прямо в глаза и дерзко спросят нас: «А что ты сделал для общего дела за всю свою жизнь?». Я боюсь этого вопроса. Не знаю, смогу ли я на него вразумительно ответить. Возможно, придется мне, поступив взгляд, сказать: «Ничего...»
Очень не хотелось бы дожить до такой пасхальной ночи, когда на вопрос ребенка: «А чем же отличается эта ночь от всех прочих?» придется дать такой вот ответ. Так отвечали нам старики. Но они это умели облечь в солидную, почетную форму, а вот наше «ничего...» прозвучит уж совсем безрадостно. Ибо времена меняются и новая эпоха возлагает на нас иную меру ответственности. Непохожи мы на наших стариков, и спрос с нас другой — времена изменились.
«Ничего не сделал я для общего дела,— спокойно глядя нам в глаза, отвечают нам наши отцы.— Ничего не сделано, ибо ничего не делалось во всем мире. Мы жили в пропащие времена среди спящего народа. И нам нечего стыдиться, ибо не человек властвует над эпохой, но эпоха над ним».
Но когда мы поседеем и когда к нам обратятся с этим вопросом — чем оправдаемся мы? Наше время — совсем иное. Тишь и спячка окружали их — нас окружают громы и бури. Что-то мнется и исчезает, что-то зарождается, что-то рушится, что-то строится, тысячи первопроходцев идут доселе неведомыми путями, взвиваются и реют новые знамена, звучат новые слова, «лед тронулся», и когда он идет — он сметает все со своего пути. И тот, кто живет в такие времена и ухитряется дожить до старости, не пошевелив пальцем, как он ответит свое «ничего» юному судье — судье самого победного суда? «Ответь мне,— скажет судья.— Говорят, в ваши дни над землей пронесся тайфун, гроза, освежившая дыхание народа, влившая в него новые силы. Расскажи мне о ходе той борьбы, о ваших подвигах, о твоих делах». А тот, задыхаясь от стыда, начнет бормотать слова Агады: «Рабами были мы...»[*]— Был рабом и в рабстве остался. Да, была буря в дни моей юности, но я спрятался и переждал. Да, сама история вела мой народ к свободе, но я уцепился за тростник на берегу и остался со своей Агадой. Ничего не сделал, ничего не видел, ничего не знаю».