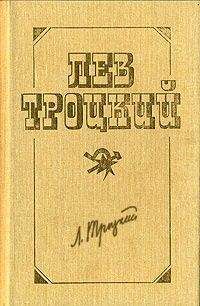Владимир Набоков - Набоков о Набокове. Рецензии. Эссэ
Я располагаю позволением автора упомянуть здесь о моих нечаянных встречах с его семьей. Его двоюродный брат, тоже гражданин этой страны, рассказывал мне, что в юности сестры Набокова и его младший брат с необыкновенной легкостью писали лирические стихи (как многие молодые русские того поколения). Вспоминаю, как на литературном вечере в Праге где-то в начале двадцатых годов (наверно, в 1923) друг Франца Кафки…., талантливый переводчик Достоевского и Розанова, указал мне на мать Набокова, маленькую седоволосую женщину в черном платье, которую сопровождала юная девушка с ясными глазами и ослепительной кожей лица, сестра Набокова Елена. В тридцатые годы, живя в Париже, мне случилось встретиться с братом Набокова, Сергеем: хотя между ними было меньше года разницы, похоже, Владимир и Сергей с раннего отрочества жили каждый свой жизнью, ходили в разные школы, имели разных друзей. Когда я познакомился с Сергеем, он плыл в гедонистическом тумане, среди космополитичной монпарнасской толпы, столько раз описанной американскими писателями определенного типа. Его лингвистические и музыкальные способности зачахли, не сумев преодолеть природной склонности к праздности. У меня есть основания полагать, что его детство никогда не было таким счастливым, как у старшего брата, любимого сына родителей. Обвиненный в симпатиях к англосаксам, Сергей, человек, несмотря на кажущуюся изнеженность, прямой и бесстрашный, был арестован немцами и умер в концентрационном лагере в 1944 году.
На дивных страницах книги «Когда сирень не вянет», отведенных ранним воспоминаниям мисс Браун, писательница исподволь упоминает о неуязвимости того мира, где сбор сахарного кленового сока или испеченный матерью именинный пирог существовали как нечто естественное и неизменное, равно знакомое и дорогое сегодняшнему аристократу из Новой Англии или филадельфийскому князьку также, как их примитивным, трудолюбивым предкам два или три поколения назад. Зато мир набоковского прошлого несет на себе неповторимую печать сияющей хрупкости, составившую одну из главных тем его книги. С необычайной проницательностью Набоков останавливается на самых странных видениях грядущих своих утрат, которые являлись ему в детские годы, — может быть, упиваясь ими. На видном месте в детской их петербургского дома висела маленькая акварель, написанная «в бодрой спортивной английской манере, в какой обыкновенно исполняются охотничьи сцены и тому подобное и что так пригодны для составных картинок»; на ней была представлена, с соответствующим юмором, семья французского аристократа в изгнании: луг, усеянный маргаритками, корова в стороне, синее небо; пожилой упитанный аристократ, в блестящем камзоле и коричневого цвета коротких штанах, сидит с удрученным видом на низеньком табурете подле коровы, приготовясь доить ее, а его жена и дочери развешивают изысканной расцветки постирушку. Повсюду в поместье Набоковых родители автора, словно возвратившиеся из многолетних странствий путешественники, находили дорогие сердцу приметы событий, укутанных в неуловимое, но каким-то образом вечно присутствующее прошлое. В кипарисовых аллеях крымских садов (где сто лет назад гулял Пушкин) юный Набоков смешил и дразнил свою подругу, имевшую пристрастие к романтической литературе, замечаниями по поводу своей осанки или слов в запоминающейся, слегка жеманной манере, которую его спутница вполне могла и возродить много лет спустя, если бы писала мемуары (в духе воспоминаний, связанных с Пушкиным): «Набоков любил вишни, особенно спелые», или: «Он имел привычку щуриться, глядя на заходящее солнце», или: «Помню вечер, когда мы сидели на муравчатом берегу» и так далее — игра, верно, глупая, но кажущаяся не такой уж глупой теперь, когда на наших глазах она становится картиной предсказанной утраты, трогательной попыткой удержать обреченные, уходящие, дивные, умирающие черты жизни, пытающейся, совершенно безнадежно, увидеть себя в будущем воспоминании.
После Февральской революции, весной 1917-го, Набоков-старший работал во Временном правительстве, а позже, когда установилась большевистская диктатура, был членом другого, недолго просуществовавшего Временного правительства на еще сохранявшем хрупкую свободу юге России. Эта кучка людей, русских интеллигентов — либералов и социалистов некоммунистического толка — по основным вопросам придерживалась тех же взглядов, что и западные демократы. Впрочем, нынешним американским интеллектуалам, почерпнувшим свои познания в русской истории из коммунистических и финансируемых коммунистами источников, попросту ничего не известно об этом периоде. Большевистские историки, само собой разумеется, принижали значение борьбы демократов, сводили ее до минимума, грубо извращали факты, всячески поносили их и навешивали пропагандистские ярлыки («реакционеры», «лакеи», «рептилии» и так далее), ничем не отличаясь от советских журналистов, именующих нынешних удивленных американских официальных лиц «фашистами». Удивляться надо было тридцать лет назад.
Читатели набоковской книги обратят внимание на необычайное сходство между нынешним отношением к Советской России бывших ленинистов и раздраженных сталинистов в этой стране и непопулярными мнениями, которые русские интеллигенты выражали в эмигрантской периодике на протяжении трех десятилетий с момента большевистской революции, пока наши рьяные радикалы раболепствовали перед Советской Россией. Приходится допустить, что русские политические писатели в эмиграции или намного опередили свое время в понимании истинного духа и неизбежной эволюции советского режима, или они обладали интуицией и даром предвидения, граничащими с чудом.
Мы живо представляем себе годы, проведенные мисс Браун в колледже. Не то с автором «Убедительного доказательства», поскольку он совершенно ничего не говорит о школе, которую он, конечно же, должен был посещать. Покинув Россию на заре советской эры, Набоков завершил свое образование в Кембриджском университете. С 1922 по 1940 он жил в разных местах в Европе, преимущественно в Берлине и Париже. Занятно, кстати, сравнить жутковатое впечатление, которое оставил у Набокова Берлин в эпоху между двумя войнами, и написанные одновременно, но намного более лиричные воспоминания Спендера (опубликованные года два назад в «Партизэн ревью»), особенно то их место, где говорится о «безжалостно-прекрасных немецких юношах».{31}
Описывая свою литературную деятельность в годы, когда он находился в добровольном изгнании в Европе, Набоков в несколько докучливой манере говорит о себе в третьем лице, именуя себя «Сириным». Под этим литературным псевдонимом он был, и остается по сию пору, хорошо известен в узком, но высококультурном и своеобразном мире русских экспатриантов. Не подлежит сомнению, что, перестав на деле быть русским писателем, он волен говорить о произведениях Сирина как о принадлежащих другому писателю. Но думается, истинная цель этого — представить себя или, вернее, самую заветную часть себя в нарисованной им картине. Поневоле вспоминаешь о тех проблемах «объективной реальности», что обсуждает философия науки. Наблюдатель создает подробную картину вселенной, но закончив, обнаруживает, что в ней чего-то недостает: его собственного «я». Поэтому он помещает в нее и себя. Но «я» вновь оказывается снаружи и все опять повторяется в бесконечной череде проекций, как в тех рекламах, что изображают девушку, которая держит свой портрет, на котором она держит свой портрет, где она держит свой портрет, изображение на котором уже неразличимо только по причине зернистости печати.
По правде сказать, Набоков шагнул еще глубже, на третий уровень, и под маской Сирина изобразил личность по имени Василий Шишков{32}. Это было продиктовано десятилетней враждой с одним из самых одаренных критиков в среде русской эмиграции, Георгием Адамовичем, который поначалу не признавал, потом признавал с неохотой и наконец выражал неуемное восхищение прозой Сирина, но по-прежнему с презрением относился к его поэзии. Сговорившись с редактором, Набоков-Сирин подписал свои стихи фамилией Шишков. В августе 1939 года Адамович поместил в русскоязычной газете «Последние новости» (издававшейся в Париже) рецензию на шестьдесят девятый номер ежеквартальника «Современные записки» (тоже парижского), в которой непомерно восторгался стихотворением Шишкова «Поэты» и выражал надежду, что пусть и с запозданием, но русская эмиграция, возможно, наконец-то дала великого поэта. Осенью того же года в той же газете, Сирин подробно описал воображаемое интервью, которое он взял у «Василия Шишкова». Потрясенный, но не утративший боевого задора, Адамович ответил, что сомневается, что это был розыгрыш, однако добавил, что у Сирина могло хватить изобретательности, чтобы изобразить вдохновение и талант, каковых ему, Сирину, так недостает.{33} Вскоре после этого Вторая мировая война положила конец русской литературе в Париже. Боюсь, что мне трудно до конца поверить автору «Убедительного доказательства», когда в своих воспоминаниях о литературной жизни он подчеркивает, что всегда был совершенно равнодушен к критике, враждебной или благосклонной. Как бы то ни было, в собственных его критических статьях не редкость пассажи отвратительные, продиктованные мстительным чувством, а иногда попросту глуповатые.