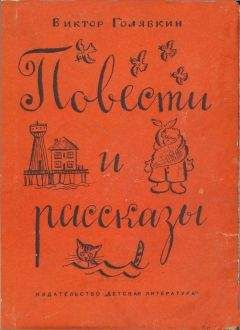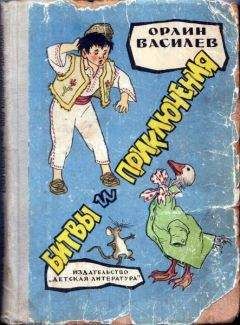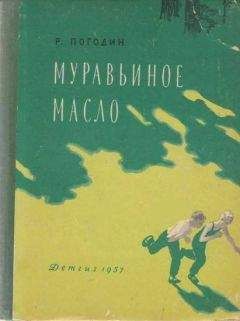Сергей Алексеев - Россия: мы и мир
Точно так же и в стихии существования человечества. Остаются некие вечные «споры», не подверженные никаким внешним воздействиям.
Стремление к общинности (братству) жизни – это лишь первый спасательный круг, брошенный нам еще в глубокой древности и доныне удерживающий Россию на поверхности. Традиция вечевого управления имеет настолько глубокие корни, что память о ней существует на генном уровне, а поэтому неистребима. Благодаря этой центростремительной силе мы выстояли во время «татаро-монгольского» ига, когда политика Орды была совершенно определенной – разделяй и властвуй. Несмотря на усобицы, инспирированные Востоком, и всегдашнее вялотекущее клятвопреступление – целовали крест, а потом шли друг на друга (низкий уровень религиозного сознания), Русь не разбрелась, иначе некому было бы топить крестоносцев на Чудском озере, и, тем паче, никогда бы не собрались на Куликовом поле бить Мамая (куда, напомню, Белозерский полк шел с севера пешим и боялся опоздать, а тогда ведь не было военкоматов).
Стремление к общинности (братству) жизни – это лишь первый спасательный круг, брошенный нам еще в глубокой древности и доныне удерживающий Россию на поверхности. Традиция вечевого управления имеет настолько глубокие корни, что память о ней существует на генном уровне, а поэтому неистребима. Благодаря этой центростремительной силе мы выстояли.
Мы прошли через столыпинскую реформу, когда малоземельные деревни пытались рассадить по хуторам и отрубам. В средней полосе России выделившиеся из общины индивидуалисты начали огораживать свои земли, чем вызвали у общинников сначала тихий ропот, потом, когда пришлось на них батрачить, неприязнь. Поэтому раскулачивали истинных мiроедов (а таких было сколько угодно) без всякого сожаления. И напротив, всем миром ревели в голос, когда делали это несправедливо. В Сибири подобные хутора через несколько лет сбегались в деревни, наплевав на приволье и возможность разжиться. «Мiром и тятьку бить легче» – ни у одного народа нет больше похожей пословицы. Русская душа всегда тяготилась одиночеством и не могла жить без мира, а точнее, мiра – так называлась община, общество (у Толстого роман назывался «Война и мiр», а это звучит совершенно иначе).
И вот теперь вместе с капитализмом пришел индивидуализм, тяжелый, непроницаемый, как свинец: человек человеку – волк! Закон рынка – беспощадная конкуренция, где выживает сильнейший. Она, конкуренция, должна якобы повысить градус духовно-волевого потенциала, заменить религиозное сознание и стать мерилом нашей европейской «цивилизованности».
Эти мысли проповедуются всеми четырьмя властями и избранными самодержцами. И одновременно с этим они же проповедуют и пытаются создать в России гражданское общество! (Его институт – Общественная палата – уже создан.) Если это не лукавство, то абсолютный маразм, продолжение «научных изысканий» Ельцина, когда он собрал ученых, запер на даче и заставил изобрести и сформулировать государственную идею! Если это вам сейчас не кажется бредом больного разума, погодите немного, скоро покажется. Всякое бывало: Гитлер держал в бункере тибетских монахов, дабы те, медитируя, останавливали русские танки, идущие на Берлин; Сталин сажал ученых в шарашки, чтоб они придумывали ядерную бомбу. Но чтобы государственную идею – такого еще мир не ведал!
Впрочем, как не ведал он и расстрела собственного парламента.
Иногда создается ощущение, будто управляют Россией некие пришельцы или чужеземцы, не понимающие простых вещей или принципиально не желающие ничего понимать. Конечно, брать готовые, отработанные модели и приспосабливать их к своей машине проще и легче, но подобная технологичность годится лишь на сборочном конвейере. Даже и здесь вы никогда не воткнете европейскую вилку в нашу розетку, поезд на наши рельсы не поставите – ширина колеи другая.
Потому и многие реформы по ним «не идут».
На Западе, где индивидуализм – неотъемлемая принадлежность его культуры, гражданское общество существует нормально, поскольку там иные правила игры. Но даже и здесь, особенно в последнее время, проявляются бледные, как трава под кирпичом, ростки стремления к общинности, ибо жесткий индивидуализм обрекает человека на одиночество и противоречит самой человеческой природе. Однажды наблюдал это смешное и печальное действо в США, когда взрослые американцы собираются в каком-нибудь арендованном помещении (не в клубах!), становятся в круг и пытаются танцевать. Поскольку же у белых американцев нет своей культуры, в том числе и танца, а африканские ритмы, от которых уже притомились, они не приемлют принципиально, то получается два притопа – три прихлопа. И обязательно стараются прикоснуться руками друг к другу (контакт осязательный – как компенсация дефицита общения вообще). Подобное камлание длится часа полтора, зрелище напоминает наш детский сад, совмещенный с чукотским шаманизмом и топтанием слонов (они все толстые, особенно женщины), однако глаза у людей оживают, расслабляются мышцы лица – по крайней мере сходят обязательные приклеенные улыбки, более напоминающие оскал измученной в неволе души.
На Западе, где индивидуализм – неотъемлемая принадлежность культуры, гражданское общество существует нормально. Но в последнее время проявляются ростки стремления к общинности, ибо жесткий индивидуализм обрекает человека на одиночество и противоречит самой человеческой природе.
Стремление к общинности (братству) – это естественная, природная составляющая этнопсихологии, и в основе ее лежит вовсе не жажда выживания, например, или спасения собственно жизни, а чувство любви. И тут невозможно определить, что первично: общинности не может быть без любви и любви – без общинности. (Индивидуализм – это всегда любовь к себе.) На этой взаимосвязи стояло древнее православие (пра-во, пра-ва – дух (свет) высший, дух, буквально «парящий в небе»; славие – слава перевода не требует), и не случайно русское христианство стало официально называться православным (с 1448 года, чтобы отгородиться от Римской Церкви, засылающей своих митрополитов), ибо в его основе тоже лежит любовь и общинность.
Понятие «братская любовь» настолько древнее и настолько стойкое, что, пожалуй, больше нет подобных, дошедших до нас в неизменном виде. Если ПРА – столп духа, устремленный вверх (столп света), где знак «П» означает «столп» (Стоунхендж), и поэтому все слова с «пра» будут иметь духовный (небесный) смысл: правда, прах, Пра (приток Оки), Прага (идти вверх), прадед, праматерь, праздник и т.д., то БРА – дух (свет) земной, сотворенный на земле, где начертание знака «Б» (бог) означает земную (самодостаточную) систему, замкнутую на себя (кому интересно, можно посмотреть начертание древнерусских буквиц). Все слова с «бра» несут непременно земной смысл – брань, брага, брак (супружество), образ (вот почему всегда следует уточнение какой: земной или небесный). Наконец, слово «брат» утверждает принадлежность этого духа (света) к земной тверди (Т), а в слове «братство» это утверждение лишь усиливается за счет сочетания знаков СТ (все, что стоит на земле).
Слова «люди» и «любовь» – однокоренные и одинаковы по смыслу. Уникальность их в том, что корни ЛЮД и ЛЮБ не изменяются, не теряют ни единого звука ни в какой форме. Это указывает на их невероятную живучесть и мировоззренческое начало, ибо они несут высокую сакральную нагрузку. Знак Д – добро, знак Б – бог (...бога ведая, глаголь добро – азбучная истина). А ЛЮ (как и ЧУ) передает космическую вибрацию (сигнал, внушение, волшебство), настраивающую сознание, преобразующую его в человеческое (людское чувственное) еще в колыбели (люльке) с помощью колыбельных песен. (Кстати, «колыбель» вовсе не от слова «колыхать», а от коло – солнце и белый – светлый, что говорит о потрясающей любви к детям.) Стоит изменить Д (добро) или Б (бог) на Т (твердь) – и получается нелюдь – ЛЮТ. То есть происхождение этих слов относится к глубокой древности, когда по земле ходили люди илюты – нелюди (возможно, неандертальцы), «лютые звери», безъязыкие, не знающие бога и добра. (Это к вопросу, как язык может хранить Предание.)
Слова «люди» и «любовь» – однокоренные и одинаковы по смыслу. Уникальность их в том, что корни ЛЮД и ЛЮБ не изменяются, не теряют ни единого звука ни в какой форме. Это указывает на их невероятную живучесть и мировоззренческое начало, ибо они несут высокую сакральную нагрузку.
Любовь – самое неискоренимое чувство, не подвластное ни времени, ни пространству, обладающее потрясающим постоянством в изменчивом мире. Интуитивная потребность человека в любви (к жизни, к родителям, к женщине, к детям, Богу и т.д.) не позволяет ему превращаться в нелюдь. Она остается даже у самых закоренелых преступников и убийц, казалось бы утративших человеческое лицо, – редко кто из них пожелает, например, своим родителям или детям зла, ненависти, смерти, нелюбви. Если в самом падшем человеке остается хотя бы искра любви, еще не все потеряно. Поскольку он люд, а не лют.